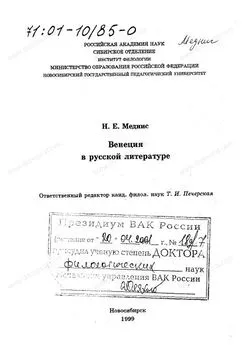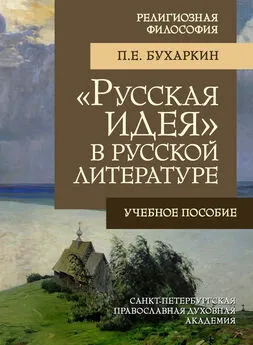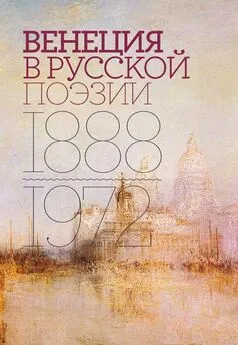Нина Меднис - Венеция в русской литературе
- Название:Венеция в русской литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Меднис - Венеция в русской литературе краткое содержание
Венеция в русской литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этом рассказе Магора есть несколько штрихов, указывающих на сходство моментов пересечения живописной и зеркальной границы: перед картиной следует встать прямо напротив, как перед зеркалом, сосредоточенно вглядеться в изображение, преодолеть чувство жути. Но вместе с тем мир картины и отличен от зеркального отражения и Зазеркалья. Последнее, помимо смены знаков на противоположные, часто предстает как царство неупорядоченности, хаотичности. Картина же, независимо от жанра, — это всегда текст, написанный рукой мастера, и потому вхождение в картину связано с вторжением в художественно завершенную систему с возможной, хотя отнюдь не обязательной, деформацией ее. В этом смысле живописное изображение похоже на тот волшебный мир спящего царства, куда должен вступить герой, дабы при выполнении определенных условий все вокруг пробудилось и ожило. Для самого пересекающего границу героя вхождение в картину не означает неизбежности небытия, как это часто случается с человеком, шагнувшим в Зазеркалье, но вместе с тем нарушение границы миров таит в себе обычную для этой ситуации опасность. Как известно, выйти из Зазеркалья гораздо труднее, чем войти в него. В случае с картиной опасность подстерегает вошедшего именно там, где он испытывает наибольшее наслаждение, так как ему важно уловить момент, когда пора пускаться в обратный путь. Если момент будет упущен, человек рискует остаться в картине навсегда. Потребность безошибочно почувствовать время еще возможного и уже необходимого выхода также роднит картину и зеркало. Часто этот момент дается как некая последняя секунда, за которой — либо жизнь, либо бездна небытия. Именно так описан освободительный порыв героя в повести А. В. Чаянова «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека»: «Нечеловеческим напряжением воли в последний момент у самого края бездны Алексей почти с колен прыгнул через ртутную поверхность прямо на спину склонившегося стеклянного человека» (92). Подобным же образом, как мгновенный рывок, описывает выход из картины и Магор у В. Набокова: «Но наслаждение длилось недолго; я начинал чувствовать, что мягко стыну, влипаю в полотно, заплываю масляной краской. Тогда я жмурился и, со всех сил дернувшись, выпрыгивал: был нежный хлопающий звук, как когда вытаскиваешь ногу из глины. Я открывал глаза — я лежал на полу, под прекрасной, но мертвой картиной…» (33).
Момент пересечения границы отмечен здесь очень рельефно, а по обе стороны от нее — две формы физического существования героя. Следовательно, вхождение в картину, в отличие от погружения в Зазеркалье, связано не с развоплощением человека в мире инобытия, но лишь с его пластической трансформацией. Правда, трансформация эта очень значима, ибо при задержке в картине она приводит к смерти, хотя и временно обратимой при условии вхождения в изображение другого человека или полностью обратимой в случае реставрации изображения. Реставрация в данном варианте означает снятие с полотна запечатлевшейся в нем фигуры человека, по умыслу или неосторожности оставшегося по ту сторону границы, что, собственно, как бы и происходит с Симпсоном. Глубоко потрясенный «Венецианкой» герой начинает медленно погружаться в ее мир. Вначале это не мир картины, а тот мир, который реально стоял за картиной и в котором жила перенесенная на полотно Венецианка: «Лугано, Комо, Венеция… — пробормотал он, сидя на скамье под бесшумным орешником, — и тотчас же услышал тихий плеск солнечных городов, а потом — уже ближе — позвякиванье бубенцов, свист голубиных крыл, высокий смех, похожий на смех Морийн, и шарканье, шарканье невидимых прохожих. Ему хотелось удержать на этом слух, — но слух его, как поток, бежал все глубже, — еще миг, и — уже не в силах остановиться в своем странном падении — он слышал не только шаги прохожих, но стук их сердец, — миллионы сердец вздувались и гремели, и, очнувшись, Симпсон понял, что все звуки, все сердца сосредоточены в сумасшедшем биении его собственного сердца» (31).
Симпсон движется к картине с двух сторон — из сердцевины ее предбытия через свое сердце и из внеположенного ей мира английского поместья начала ХХ века. Точка встречи обоих маршрутов — внутри полотна. Попытку войти в картину герой предпринимает дважды, причем вторая из них описана В. Набоковым так, что нельзя однозначно сказать, совершилась ли она в реальности или это только сон Симпсона, материализовался ли он в портрете рядом с Венецианкой или, как предполагает полковник, Франк из мести испортил картину, вписав туда портрет своего приятеля. С одной стороны, обе версии сюжета до последней главы даются как равно возможные. В. Набоков вводит в текст несколько деталей, говорящих в пользу первого, фантастического, варианта развития событий: Симпсон изображен на полотне в том платье, которое он с такой тщательностью подбирал, намереваясь войти в картину. Кроме того, на следующий день, когда порча картины была обнаружена, Симпсон исчез. Факт этот словесно фиксирует полковник — «Бедный Симпсон исчез бесследно» (40), — и именно его слова рождают в Магоре подозрение относительно ирреальности случившегося. С другой стороны, после того, как Магор стирает изображение Симпсона, восстанавливая деформированный текст полотна, герой обнаруживается именно в том месте между цветником и стеной, где на него ночью напала дремота. Однако вполне разумное объяснение события тотчас снова затуманивается упоминанием о том, что это было то самое место, куда стерший изображение Симпсона Магор бросил испачканные краской тряпки. Таким образом, В. Набоков задает своего рода маятниковое движение сюжета, колеблющегося между точками рационального и иррационального. Двойная мистификация, кажется, разъясняется в последней главе, где полковнику вручают записку Франка, который признается в содеянном, а Магор сообщает ему, что «Венецианка» — лишь изумительное подражание Лучиано, написанное Франком.
Тем не менее, прозрачный, расставивший логические точки над i финал рассказа не снимает факта существования синхронной мистической связи между отражением и отражаемым, которая прочно закрепилась за зеркалом, а в рассказе В. Набокова утверждается применительно к картине. Об этом говорит композиционная и временная параллель двух эпизодов — сна Симпсона и вписывания Франком его портрета в текст «Венецианки». Мало того, что Симпсон видит во сне то, что фактически делает Франк, хотя и без самого исполнителя, но и действия последнего, не описанные в рассказе, даются через зеркало сна Симпсона и его ощущения: «Симпсон оглянул комнату, где он стоял, не чувствуя, впрочем, пола под ногами. В глубине вместо четвертой стены — светилась, как вода, далекая знакомая зала с черным остовом стола посредине. И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон. Очарование рассеялось. Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку — но не мог повернуть шею. Он увяз, как муха в меду; дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его, и плоть, и платье превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне. Он стал частью картины, он был написан в нелепой позе рядом с Венецианкой…» (39).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: