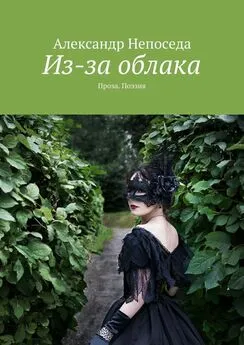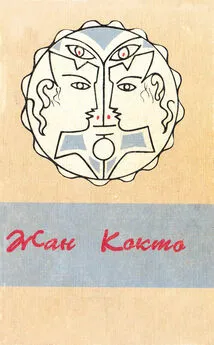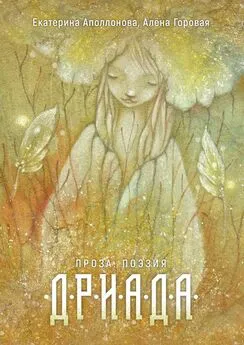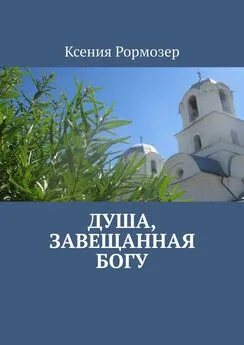Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Название:Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инапресс
- Год:1998
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87135-063-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард краткое содержание
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ощутимость приема
Для начала кратко поясним сам феномен. Звуковой повтор лучше всего описать как фоническую эквивалентность отрезков текста (слов или более крупных единиц). Эквивалентность звучания слов не обязательно предполагает повторение одной или нескольких фонем, но обусловлена уже акустическим сходством отдельных звуков. Звуковой повтор согласных вполне может пренебречь оппозицией по глухости–звонкости (/б/ — /п/), по мягкости–твердости (/п/ — /п7) или по обоим признакам (/ж/ — /щ:/). Эквивалентны могут быть также согласные, различающиеся по типу артикуляции, но сходные или близкие по месту артикуляции, например фрикативное /ф/ и взрывное /п/ или фрикативное /щ/ и аффриката /ч/. Прежде всего это происходит в случае, когда они находятся в окружении одинаковых гласных или согласных звуков, как в следующих примерах из рассказов Чехова:
«…плакала флейта» ([пл] ≈ [фл’]) («Скрипка Ротшильда»; VIII, 297).
«Дождь стучал в окна всю ночь» ([{о}щ:] * [{о}ч]) («Крыжовник»; X, 65).
В первом примере губно–губное взрывное [п] и губно–зубной фрикатив [ф] включены благодаря соседству с плавными [л] и [л’] в ту фигуру повтора, которая обусловливает их сходство. Сходство же плавных [л] и [л'] актуализирует сходство предшествующих шумных [п] и [ф], обладающих общими признаками лабиальности и глухости.
Во втором примере связь [щ:] с [о] в слове «дождь» подчеркивает звуковое сходство мягкого фрикатива с расположенной также после [о] мягкой аффрикатой [ч] в слове «ночь». «Дождь», в первую очередь посредством гласного, а также с помощью шипящего, входит в ту сложную последовательность, которая основана на повторе как гласных (дождь — окна — ночь ), так и согласных звуков (дождь — стучал — ночь). Совокупность соответствий этих слов предстает как рифма. [494]
В русском языке носителями звукового повтора гласных являются преимущественно ударные гласные звуки. Однако безударные гласные также могут в определенных условиях участвовать в звуковом повторе: например, если их окружают одни и те же или близкие по звучанию согласные или если они чередуются в той или иной последовательности с ударными гласными схожей окраски. [495]
Фонические условия звукового повтора, таким образом, менее строги, чем условия стандартной русской рифмы. Что же тогда гарантирует ощутимость звукового образа? Чем сознательно построенная эквивалентность отличается от случайного скопления определенных звуков? Эти вопросы, возникающие уже по отношению к поэзии, имеют особый вес в прозе. Ведь непрерывность прозаического текста, которую не тормозит деление, соотносимое с поэтической строкой, и которая не имеет остановок и «поворотных пунктов», стремится скрыть фоническую эквивалентность, восприятие которой всегда требует остановки, возврата от звука повторяющего к повторенному. Поэтому даже высокая частота и плотность звуковых образов не гарантируют их ощутимости в прозе. Для того, чтобы звуковой повтор стал ощутим, он должен осуществляться в пределах маркированных единиц и предполагает связь со сцеплениями на других уровнях. Такое сцепление — в первую очередь смежность слов в синтаксических единицах, таких, как синтагма, часть фразы или предложение. Пример смежности в предложении — выше приведенная цитата из «Крыжовника». В последующих примерах звуковой повтор подчеркивается не только смежностью слов в предложении, но прежде всего параллелизмом ступенчатой звуковой последовательности с членением предложения на отрезки: каждый отрезок повторяет или варьирует фигуру повтора, прозвучавшую в первой части:
«Следователь смеялся, I танцевал кадриль. I ухаживал, а сам думал: I не сон ли всё это?» («По делам службы»; X, 97).
«По дачной платформе I взад и вперед I прогуливалась парочка I недавно поженившихся супругов. II Он держал ее за талию, I а она жалась к нему, I и оба были счастливы» («Дачники»; IV, 16).
Так, наряду со смежностью в тексте есть еще другой фактор, позволяющий воспринять звуковой повтор — эквивалентность синтагм и отрезков. Эту эквивалентность можно определить по разным признакам: по длине, синтаксической структуре, грамматическим категориям, семантическому наполнению и, не в последнюю очередь, — по просодии. Ведь просодический ритм вместе со звуковым повтором обусловливает эвфоническое воздействие орнаментальной прозы. Причем функциональные отношения количественной и качественной эвфонии, т. е. ритма и звукового повтора, вполне взаимны: насколько прозаический ритм подчеркивает звуковой повтор, настолько качественно–фоническая эквивалентность делает более ощутимым просодический порядок. Показательно, что приводимые в литературе примеры прозаического ритма у Чехова, как правило, насыщены звуковым повтором.
Согласованность с эквивалентностями на не–фонических уровнях делает ощутимым также трансфрастический звуковой повтор. Звуковое сходство отдаленных друг от друга текстовых сегментов может актуализироваться, например, с помощью их эквивалентности на уровнях семантического содержания и тематической значимости. В самых общих чертах можно сказать, что фоническая эквивалентность ощутима в той степени, в какой она отмечена кооккурентностъю или изотопией с эквивалентностями на других уровнях. В орнаментальной прозе изотопия разноуровневых эквивалентностей, определяющих друг друга, становится конструктивным принципом. Это объединяет словесное искусство прозы и поэзии.
Развертывание
Каким образом звуковая структура дискурса влияет в рассказах Чехова на восприятие тематического порядка истории? Какова смысловая функция звукового повтора?
Если в критической литературе о Чехове вообще речь идет о звуковых фигурах, то обычно подчеркивается их иконическая функция. Она проявляется в двух формах. Во–первых, в звукоподражании, в ономатопее, которая более или менее точно воспроизводит акустические феномены через звуковую форму слова. Для нарративного дискурса такой тип иконичности имеет, естественно, ограниченное значение. Правда, у Чехова можно порой обнаружить фигуры повтора, отображающие звуковое явление, как например в следующем отрывке из «Скрипки Ротшильда»: [496]
«…скрипка взвизгивала […] хрипел контрабас» (VIII, 297).
«Тут с писком носились кулики, крякали утки» (VIII, 303).
И тем не менее такой звукоподражательный повтор в словах, несущих смысловую нагрузку, занимает достаточно маленькое место в звуковой семантике чеховского дискурса.
Вторая форма иконичности — звуковая символика. Она не воспроизводит звуковые феномены, но через сложные ассоциации рождает смешанные впечатления, чувства, настроения. В рассказах Чехова, без сомнения, найдутся звуковые повторы, имеющие такую символику. Звукосимволическое значение таких повторов, правда, весьма расплывчато и, как правило, не безусловно, т. е. зависит от семантики связанных фонической эквивалентностью лексем. В литературе о Чехове однозначность и непосредственность звуковой символики в общем переоценивают. Это часто приводит к довольно произвольным толкованиям. Осторожнее следует быть тем, кто, признавая априорную иконичность звучания отдельных согласных и гласных, приписывает им определенное значение или настроение. [497]Такого рода убежденность, правда, поддерживается свидетельствами самих художников слова — вспомним звукосимволическую идиосемантику Белого или футуристов, — но связь звука и значения, которая в действительности складывается по преимуществу a posteriori , оказывается верной только в рамках соответствующего поэтического контекста и поэтологической системы. У Чехова такая индувидуальная звуковая семантика маловероятна. Не останавливаясь подробно на спекуляциях по поводу звуковой символики фонических эквивалентностей, обратимся к приему, который — хотя в нем иконичность участвует — заставляет нас искать функцию звукового повтора в чем‑то другом, чем изображение акустических или эмоциональных впечатлений. Этот прием можно охарактеризовать как развертывание звуковой фигуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: