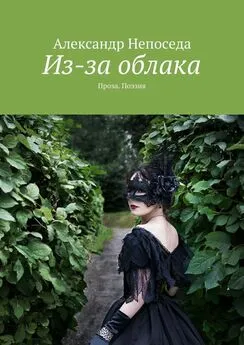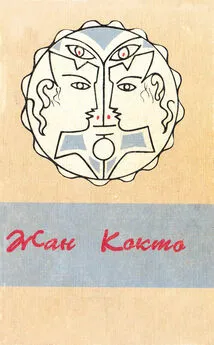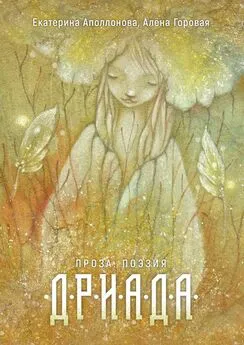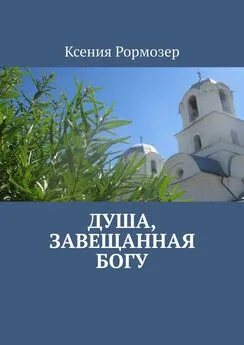Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Название:Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инапресс
- Год:1998
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87135-063-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард краткое содержание
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Томас Виннер видит в «повторе неблагозвучных (harsh) ц, ч, ж, ш, щ» и в «игре с сочетаниями жи, щи, ши, иц» способ усилить уничижительный оттенок слова «жид», которым Яков Иванов наделяет бедного Ротшильда, и акустически изобразить отношение Якова к своему антагонисту. В качестве дополнения, а не альтернативы к этому толкованию следовало бы указать на то, что сочетания [жы] («жид», «жилок»), [жы] («рыжий»), [ш’:и] («тощий») и [шы] («носивший») анаграмматически подготавливают звуковую картину второй части имени «Ротшильд» ([шыл’т]). Таким образом, имя, составляющее часть истории, мотивируется звуковым обликом слов, которые, указывая на точку зрения Якова, обозначают еврейство Ротшильда («жид»), его худобу («тощий»), цвет волос («рыжий») и просвечивающие на лице «жилки».
Создается впечатление, будто имя Ротшильда задано не событиями, но вырастает из звучания дискурса, будто оно обязано законам звукового повтора.
Во втором отрывке, который мы проанализируем, уже само появление Ротшильда, кажется, возникает из реализации звуковых образов. Представим себе сначала ситуацию: умирающий Яков сидит на пороге избы и в раздумьях о «пропащей, убыточной» жизни играет на скрипке «жалобную и трогательную» мелодию, которая вызывает у него — сурового гробовщика — слезы:
«И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. Скрипнула щеколда раз–другой, и в калитке показался Ротшильд» (VIII, 304—305).
Первое предложение ставит печальное пение скрипки в зависимость от глубоких раздумий Якова не только тематически, но и фонически: «крепче», кажется, разложено по звучанию на части в «скрипка» и «печальнее» ([крип] + [печ] = [крепче]). Читатель, слух которого подготовлен подобной изотопией тематических и фонических связей, обратит внимание и на второе предложение и его прикрепленность к первому. Слова на стыке предложений — «скрипка» и «скрипнула» — которые, обладая принципиальной совместимостью, обозначают все‑таки субъект и предикат двух совсем разных действий, образуют, следовательно, парономазию. Она опять‑таки говорит о более, нежели случайной связи этих действий. Фонический порядок дискурса образует в результате сцепление действий, которое в самой истории не осуществлено. Условием для этого, однако, является то, что читатель проецирует принцип эквивалентности со звукового на событийный уровень. Однако такую проекцию предполагает иконичность орнаментального повествования. Если в дискурсе «скрипнула» звучит как словесное эхо «скрипки», тогда в истории повторяющийся скрип щеколды, предвещающий появление боязливо медлящего Ротшильда, предстает как следствие, событийное эхо пения скрипки. Можно пойти еще дальше: появление Ротшильда мотивировано как историей, так и дискурсом. В истории появление мотивируется двояким образом: Ротшильд должен выполнить поручение управляющего оркестром — пригласить Якова играть на свадьбе, но кажется, что он идет и на звуки скрипки. Фонический орнамент дискурса подсказывает: Ротшильд, которого метономически заменяет скрипящая («скрипнула») щеколда, привлечен и звучанием слова («скрипка»), которое метономически характеризует Якова Иванова, на пороге смерти задумавшегося об убыточной жизни.
Теперь, возможно, стало ясно, почему такие художники, как Белый и Маяковский, могли провозгласить Антона Чехова «инструменталистом стиля», «веселым художником слова». Но, орнаменталист ли Чехов? Мы помедлим с ответом. И не потому, что наше объяснение так часто нуждалось в слове «кажется» или что смысловая функция фонической организации текста была выявлена лишь в некоторых, специально отобранных отрывках. Даже в чисто словесном искусстве иконичность, семантика парономазии, развертывание звуковых метафор, примат фонического порядка над порядком истории сохраняют свою убедительность лишь на уровне игры. Орнаментализм существует как раз за счет игры образно–ассоциативными значениями, высвобождающей в слове звук и возникающей из напряженности между словом как референтным знаком и словом–вещью, — за счет игры, ни в коем случае не произвольной, но противящейся однозначному толкованию ее правил. Таким образом, медлить с аттестацией Чехова как орнаменталиста нас заставляет не только трудно определяемое, основанное на игровых намеках и потому не поддающееся однозначному толкованию содержание звуковых фигур. Намного более значим следующий момент: чеховское повествование в принципе подчиняет орнаментальное последовательному изложению истории, оставаясь обязанным реалистическим законам точки зрения и психологии. У Чехова еще нельзя обнаружить непоследовательности истории, ослабленности действия, аперспектавизма и апсихологизма, характеризующих бессюжетаую орнаменталистику первой трети XX века. Словесное, образное, ассоциативное не вытесняет у него принципа нарративности, заключающегося в перспективированном и психологически оправданном изображении событий. Это придаток нарративного, второй, дополнительный уровень организации. Таким образом, рассказы Чехова строятся двояко: с одной стороны, с помощью событий и их логики, с другой, с помощью словесных фигур дискурса, избавленных от чистой денотативнсти. [506]С этам связана и двойная функциональность слова, которое в качестве прозрачного денотативного знака, каким оно остается, обозначает событие, и как самодовлеющий артефакт, каким оно становится у Чехова, открывает новые, образные, смысловые возможности. Новый статус истории и слова в результате, вероятно, стал причиной того, что орнаментализирующий повествователь Чехов и в отзывах настроенного на мимесис реалиста, и в суждениях модерниста и авангардиста, которому важна «ощутимость» слова, — в равной степени «истинный» художник.
О ПРОБЛЕМАТИЧНОМ СОБЫТИИ В ПРОЗЕ ЧЕХОВА [507]
Реалистическое прозрение
Повествование Чехова, постреалистическое по существу, это не просто «литература вне сюжета», не бессобытийностная проза, как неоднократно утверждалось [508], это повествование, в котором проблематизируется событийность реализма. Событие, являющееся стержнем сюжета, было в литературе реализма внутренней, ментальной переменой и воплощалось в том когнитивном, душевном или нравственном «сдвиге» [509], который исследователи обозначают такими понятиями, как прозрение [510], просветление или озарение [511] . В «воскресении» Раскольникова, во внезапном познании Левиным и Безуховым смысла жизни, в конечном осознании братьями Карамазовыми собственной виновности реалистическое понятие о событии приобретало образцовое осуществление. В этой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ. Происходящее на глазах читателя прозрение следовало воспринимать как земное свидетельство неземной эсхатологии. Являясь результатом нечеловеческого, в первую очередь, мышления и действия и будучи мотивировано не только внутримировыми факторами, такое событие осуществлялось благодаря трансцендентной силе, доступной более чувству и интуиции, чем разуму. Поэтому прозрение часто опосредовалось словами человека из народа, который, сам даже того не подозревая, проповедовал нездешнюю правду. Не случайно озарение Дмитрия Карамазова происходит во сне. В этом сне, противопоставленном «эвклидовской», рассудительной, «дневной» аргументации Ивана, ссылавшегося на страдающих детей, Дмитрий видит плачущее «дитё», а ямщик объясняет домогающему, «как глупый», молодому человеку, отчего «дитё» плачет. Спрашивая «без толку», Дмитрий чувствует, «что подымается в сердце его какое‑то никогда еще не бывалое в нем умиление», а когда он сквозь сон слышит «милые, проникновенные чувством» слова Грушеньки, происходит его озарение: «И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому‑то свету» [512]. И у Толстого искатели смысла узнают правду из уст простого человека, и открывается она им в один миг, в озарении. Таким образом, простые слова мужика «Он для души живет. Бога помнит» [513]действуют на Левина как откровение, внезапно сосредоточивающее напряженное мышление многих лет на одном пункте:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: