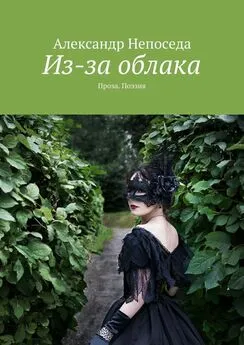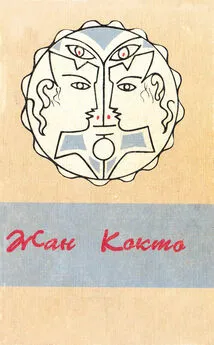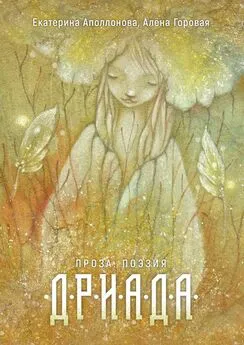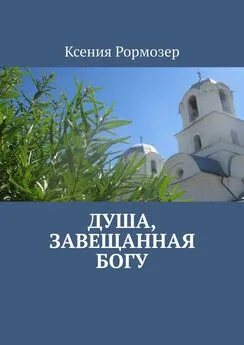Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Название:Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инапресс
- Год:1998
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87135-063-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольф Шмид - Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард краткое содержание
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Студенту кажется, что самой природе «жутко». Как уже раньше, когда он ощущал настроение в лесу как «неуютно, глухо и нелюдимо», он приписывает природе свое собственное состояние духа, вызванное внешними, физическими обстоятельствами, наступлением потемок и холода. Оттого что «самой природе жутко», вечерние потемки сгущаются, как ему кажется, «быстрей, чем надо» (306).
В этой пустынной тьме светит только один свет. Исходит он от вдовьих огородов около реки. Деревня же, в верстах четырех, утопала в «холодной вечерней мгле». Студент вспоминает о родителях. При его уходе «мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял» (306). Это воспоминание вызывает в студенте не сожаление, а досаду. По случаю страстной пятницы дома «ничего не варили». А ему «мучительно хотелось есть». Голод — это его мучения [547], но он их берет на себя не добровольно. [548]
Холод и голод, ощущаемые как нарушение «порядка и согласия» внушают студенту мысли о вечном дуновении ветра, о повторении «ужасов». Выражение этой мысли, строй внутренней речи и ссылки к различным эпохам отеческой истории обнаруживают образ мышления студента, ее содержание же соответствует инфантильному мировосприятию, сосредоточенному на физических потребностях. Недаром все эти размышления заканчиваются словами: «И ему не хотелось домой» (306).
Читатель понимает, почему Иван не сразу возвращается к родителям. «Не хотелось домой» — это перекликается со словами «мучительно хотелось есть». Быть дома — значит сегодня поститься, терпеть мучения. Огонь же, светящийся во вдовьих огородах, обещает теплоту, свет, уют и — быть может — пищу. Свет, светящийся во тьме для христианина, понимается студентом исключительно в конкретном смысле, как источник благ, удовлетворяющих его физические потребности.
Трогательная история о страдающем Петре
Костер обеих вдов, в тексте описываемый иконическим образом («Костер горел жарко, с треском»), оправдывает почти все ожидания. Но на ужин студент опаздывает: «Очевидно, только что отужинали» (307).
Пространственное и функциональное положение двух женщин, матери и дочери, отсылает читателя к конфигурации родителей героя, к сидящей на полу, босой, чистящей самовар матери и лежащему на печи отцу. Василиса, «царственная», как подсказывает ее имя, «высокая, пухлая старуха», стоит в мужском полушубке возле костра, в раздумье глядя в огонь. Лукерья же, «маленькая, рябая, с глуповатым лицом», сидит на земле и моет посуду. Способности, полномочия и обязанности между Василисей и Лукерьей распределены так же, как между отцом и матерью Великопольского. Это подтверждается и в разговоре студента с вдовами. Василиса, «женщина бывалая», выражается «деликатно» и на ее лице мягкая, степенная улыбка, Лукерья же, деревенская баба, только щурится на студента и молчит, и выражение лица у нее «странное, как у глухонемой» (307). Таким образом, кажется совсем естественным, что студент, разговаривая и рассказывая историю о Петре, обращается только к Василисе.
Что же побуждает студента пересказать историю, прочитанную накануне в церкви? Ведь он только‑что убедился в том, что и Василиса на двенадцати евангелиях была, и, рассказывая, он расчитывает на ее память: «если помнишь» — «ты слышала».
Обрисовывается три мотива студента. Во–первых, студента побуждает, наверно, потребность будущего священника в рассказывании библейских историй и в поучении верующих. Он с удовольствием показывает свою эрудицию, и этому служит дословное цитирование из церковнославянского текста и перевод одного непонятного для Василисы слова: «петел, то есть петух» (307).
Второй мотив явствует из сравнения пересказа Великопольского с теми местами из прочитываемых в великий четверг евангелий, в которых рассказывается об измене апостола Петра (Ин 13,31—18,1; Ин 18,1—28; Мф 26,57—75). [549]При таком сравнении обнаруживается: студент не всегда придерживается библейских текстов, а добавляет некоторые детали от себя. Опираясь на евангелия, он передает во многих деталях не Иоанна или Матфея, т. е. те тексты, которые читаются в великий четверг, а Луку, представленного, впрочем, в двенадцати евангелиях только одним текстом (Лк 23,32—49), не имеющим отношения к истории о святом Петре. [550]Предпочтение студентом евангелия от Луки объясняется драматизмом и психологизмом этого текста, его детализацией, более живым и конкретным изложением истории. Студент хочет, по всей очевидности, произвести на женщин впечатление, тронуть их. Поэтому он несколько раз обращается к Василисе и заключает свой пересказ народно–эмоциональной речью, содержащей такие элементы фольклора, как повторения наречий и прилагательных («горько–горько», «тихий–тихий, темный–темный»).
Третий мотив его пересказа явствует из отбора студентом эпизодов из евангелий. В двенадцати евангелиях рассказывается о всех страстях Христа до положения его в гроб. Не эту историю пересказывает студент. Отбирая только отдельные эпизоды из страстей господних, студент рассказывает, по существу, историю об апостоле Петре, и его сюжет не измена, а страдания Петра. Сосредоточиваясь на эмоциях апостола, студент детализирует и расширяет библейский оригинал. В его рассказе страдания Петра превышают даже страдания Христа:
«После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал» (307).
В соответствующих главах двенадцати евангелий (Ин, 13,31—18,1) эпизод в саду Гефсимании не рассказывается. Синоптики тяжелый час Иисуса в Гефсимании наглядно описывают (Мф 26,37—39; Мк 14,33— 36; Лк 22,42—44). Но, между тем как Лука, будучи врачом, даже сообщает, что у страдающего Иисуса пот падал как капли крови (Лк 22, 44), студент довольствуется лаконичным упоминанием: «Иисус смертельно тосковал в саду». Страдания же Петра и его тщетная борьба против сна, на которые студент обращает внимание, не упоминаются в евангелиях вообще. Об усталости Петра в евангелиях сообщается только имплицитно: Иисус находит учеников спящими (Мф 26,40; Мк 14,37; Лк 22,45). Логика нарративной селекции деталей у студента такова: Иисус преодолевает страх смерти, но «бедный» Петр не в состоянии преодолеть усталость.
Подобный сдвиг страданий мы наблюдаем и в рассказе о битом Иисусе и замученном Петре:
«Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот–вот на земле произойдет что‑то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били…» (307—308). [551]
Заметим, что о физическом и душевном состоянии Петра во время пребывания его во дворе первосвященника ни в одном из евангелий не говорится ни слова. Весь этот эпизод является свободной амплификацией текста студентом, идентифицирующим себя со святым Петром, занимающим точку зрения апостола, вникающим в его чувства. Отметим особо, что студент чрезвычайно живо и сочувственно входит в физическое состояние Петра («изнеможенный, замученный тоской и тревогой […] не выспавшийся»). Заметим также, что студент здесь особенно стремится добиться понимания слушателя («понимаешь ли»), особенно старается возбудить в Василисе сочувствие к бедному апостолу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: