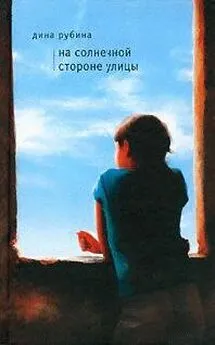Элеонора Шафранская - Ориенталистские и постколониальные мотивы в современной литературе: На солнечной стороне улицы Дины Рубиной и Нас там нет Ларисы Бау (статья)
- Название:Ориенталистские и постколониальные мотивы в современной литературе: На солнечной стороне улицы Дины Рубиной и Нас там нет Ларисы Бау (статья)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Элеонора Шафранская - Ориенталистские и постколониальные мотивы в современной литературе: На солнечной стороне улицы Дины Рубиной и Нас там нет Ларисы Бау (статья) краткое содержание
Статья из журнала «Русская словесность». — 2014. - № 1. — С. 34–42.
Ориенталистские и постколониальные мотивы в современной литературе: На солнечной стороне улицы Дины Рубиной и Нас там нет Ларисы Бау (статья) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Позиция условного «белого колонизатора», перешедшего в ранг колонизуемого (ментально русского человека, укорененного на восточной земле), по отношению к месту нахождения амбивалентна: это одновременно взгляд чужого, ориенталиста, удивленного экзотикой нерусской жизни, и своего, так как именно это его родина, которая ныне утрачена. Поведать о той колониальной цивилизации — задача рубинского повествователя, который, как фольклорист в полевых условиях, опрашивает информантов, собирает по крупицам детали быта, ландшафта, городской среды, одежды, кухни, этнографизмы, особенности языка — ойкотипы и эндемики и проч.
Так, во времена «развитого социализма» в Туркестане велась борьба с «феодальными пережитками», которые не вписывались в социалистическую унификацию: «…проходит кампания по борьбе с паранджой, и велено не пускать в городской транспорт представительниц средневекового мракобесия. — Куда прешь, в парандже?! — орет кондукторша скрюченной старухе. — Не пускайте ее, граждане! Пусть сымает! Граждане улюлюкают и гонят старуху…» (Рубина. С. 100). «А под дувалом сидели последние старики в зеленых чалмах, успевшие до Советской власти совершить паломничество в Мекку. Социализм они оценивали скептически. Перебирали четки и кривили губы: "Лучше бы инглиз (англичанин) прийшел!"» (169) — эти старики, последние из могикан, помнили русско-английское соперничество в завоевании Туркестана.
Традиционным взглядом ориенталиста выхвачены восточный торг, окружающая публика: «двое узбечат» (168), «узбекская семья» (169), «жили на нашей улице и узбеки» (176); «Молодые узбеки пытались приставать практически к любой "европейской" девушке» (178); «Уже был подогнан грузовик, и старый их дед тащил черный радиоприемник, а бабка кричала ему на идиш: "Что его брать, когда по нему только узбеков и слышно?!"» (223); «Если долго ходить вдоль рядов и смотреть на еду, узбеки угощают. Узбеки добрые» (235).
Взгляд европейского цивилизатора XIX века на туркестанский быт обнаружил отсутствие ложки у туземцев — с той поры этот мем вошел в поэтику ориентализма, тиражируемого от текста к тексту: «Однажды посадили меня соседи за большой дастархан, плов есть. А я возьми да и попроси ложку. Моя подружка Насиба рассердилась: "Ты что, плов есть не умеешь?" Плов полагалось есть руками, сложив пальцы горстью и подгребая помаленьку к себе. Освоить это искусство — не ронять ни рисинки — было не так-то просто, но необходимо: вдруг позовут на свадьбу или на угилтой — обрезание, а ты плов есть не умеешь! И брезгливость надо отбросить за ненадобностью, если хозяин решил угостить тебя со своей собственной руки. Как говорил наш сосед, дядя Рахматулла: "Кизимкя, кушяй, мусульманский рука чи-и-истий!"» (177).
Туркестанский край не был классической колонией, отделенной от метрополии морем, что подчеркнуто рубинским повествователем: «Откуда намывало все те колониальные диковины на азиатский сухой брег?» (249) — речь идет о старых вещах, попадавших на блошиный рынок Ташкента (что было отмечено в литературе не раз, например, А.И. Солженицыным в «Круге первом» (9), Е.М. Мелетинским в воспоминаниях (10), став очередным мемом Ташкента).
Ослепительное, всех манящее в край и согревающее солнце, изобильные базары, чайханы как место встреч и новостей, арыки — городские водные артерии, огромные спасительные кроны деревьев, узбекские дворы и еще многие атрибуты восточного городского ландшафта присутствуют в рубинском повествовании, продолжая ориенталистскую традицию, стартовавшую в русской литературе в XIX веке.
Взгляд рубинского повествователя-ориенталиста необычен, как уже сказано. Обычен — это когда чужой взгляд воспринимает другое. Для рубинского повествователя другое — родное и чужое одновременно; ориенталистский взгляд воспитывался, насаждался, вкупе с бытовой ксенофобией: «Летом — и тошнотворно тяжелый запах пота и кислого молока, которым узбечки моют головы» (Рубина. С. 100), «глинобитные улочки», «обшарпанные дувалы» [там же]. В унисон рубинскому дискурсу звучат фрагменты из романа Ларисы Бау: девочки, героини романа, «сидели на остановке и завистливо обсуждали наряды женского населения. Выходящие с пятого троллейбуса были одеты лучше, чем с четвертого… Потому что четвертый шел в старый город — одни узбечки в калошах, фу» (11); «— А, жиды скрытные, прикидываются, что нищие, а у самих золото в штанах спрятано. — А узбеки ослиную мочу пьют» (Бау. 258); «— Мы, русские люди, его приютили, он наш хлеб жрет и нашего жиденка побил! — гремел Васин папа. — Гнать их взашей! Разве ж это коммунисты, называется, паразиты! Коммунисты, а нашего жиденка бьют» (Бау. 276), — набросился Васин папа на двенадцатилетнего мальчика, сына преследуемых греческих коммунистов, нашедших приют в Ташкенте.
Если ориентализм туркестанского разлива формировался в конце XIX и в XX в., то рубинский — в постимперскую эпоху, но несмотря на это концепт ориентализма тот же — те же приемы и срезы.
Во второй половине XX в. с Ташкентом связан новый мем — эвакуация времен Великой Отечественной войны: «Их эвакуировали в Ташкент… И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича» (Рубина. 25). Необычайно популярный кинофильм 1960-х «Ты не сирота» об эвакуированных в город со всей страны детях, об узбекской семье, приютившей и спасшей почти два десятка детей разной национальности, отзывается в романе Рубиной типологическим фрагментом: «Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока» (Рубина. 28). В пандан к этому рубинскому фрагменту — зарисовка Ларисы Бау: у ребенка при родах умерла мать, «…не война сейчас, вынянчим, выкормим, раз горе такое. Соседка Гайша-апа надела калоши, повязала голову платком и отправилась в махаллю (узбекский квартал. — Э.Ш., Т.П.) — искать кормилицу. Нашла. Три раза в день бегала к ней с бутылочками, потом стали возить девочку к ней в коляске. Ольга Владимировна отдала кормилице свои сережки» (Бау. 87).
На смену классической ориенталистской оппозиции «запад — восток» приходит осознание одинаковости судеб разных «востоков»: «… Улицы послевоенного Ташкента… — глинобитные извилины лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей… <���…>…какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания: смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками» (Рубина. 47).
Пространство билингвизма в романе Рубиной выражено глоссами (культурологическими комментариями повествователя к словам, вошедшим в региональный русский язык) и интерференцией — обоюдным языковым влиянием. Вот таким ломаным русским говорят персонажи-узбеки: «Э-э-э! — морщился Адыл Нигматович, — глуп-сти! Тот дженчина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитаний у него, а? Вишел голий на балкон, дочкя на перил садил…» (Рубина. 24); «Кизимкя, бир пиалушкя катык кушяй, — озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу» (Рубина. 28) (девочка, одну чашку кислого молока скушай); «…Приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: — "Джя-аренный кок-руз!"…» (Рубина. 48) (жареная кукуруза).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


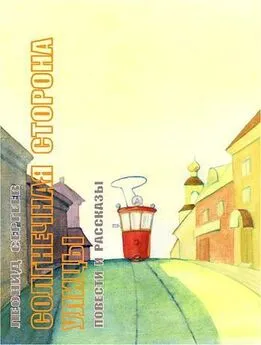


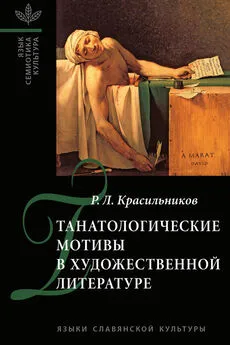
![Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)
![Чингиз Айтматов - На солнечной стороне [Сборник рассказов советских и болгарских писателей]](/books/1089570/chingiz-ajtmatov-na-solnechnoj-storone-sbornik-rass.webp)