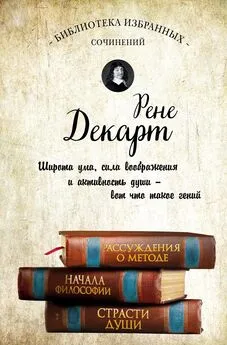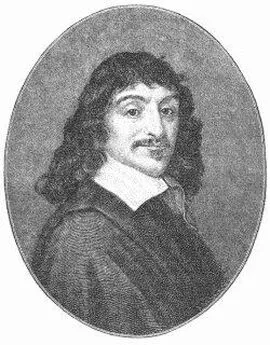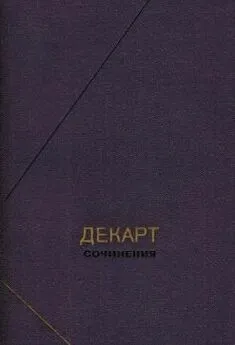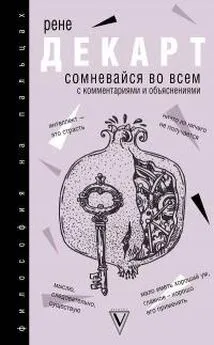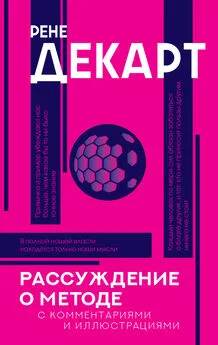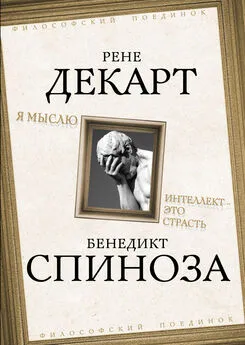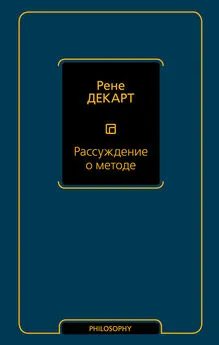Рене Декарт - Рассуждения о методе. Начала философии. Страсти души (сборник)
- Название:Рассуждения о методе. Начала философии. Страсти души (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-103169-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рене Декарт - Рассуждения о методе. Начала философии. Страсти души (сборник) краткое содержание
Рассуждения о методе. Начала философии. Страсти души (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но поскольку этому убеждению противоречит опыт, показывающий, что люди, более всего занимающиеся философией, часто менее мудры и не столь правильно пользуются своим рассудком, как те, кто никогда не посвящал себя этому занятию, я желал бы здесь кратко изложить, из чего состоят те науки, которые мы теперь имеем, и какой ступени мудрости эти науки достигают. Первая ступень содержит только те понятия, которые благодаря собственному свету настолько ясны, что могут быть приобретены и без размышления. Вторая ступень охватывает все то, что диктует нам чувственный опыт. Третья— то, чему учит общение с другими людьми. Сюда можно присоединить, на четвертом месте, чтение книг, конечно, не всех, но преимущественно тех, которые написаны людьми, способными наделить нас хорошими наставлениями; это как бы вид общения с их творцами. Вся мудрость, какой обычно обладают, приобретена, на мой взгляд, этими четырьмя способами. Я не причисляю сюда божественное откровение, ибо оно не постепенно, а разом поднимает нас до безошибочной веры. Во все времена бывали великие люди, пытавшиеся присоединять пятую ступень мудрости, гораздо более возвышенную и верную, чем предыдущие четыре; по-видимому, они делали это исключительно так, что изыскивали первые причины и истинные начала, из которых выводили объяснения всего доступного для познания. И те, кто старался об этом, получили имя философов по преимуществу. Никому, однако, насколько я знаю, не удалось счастливое разрешение этой задачи. Первыми выдающимися из писателей, сочинения которых дошли до нас, были Платон и Аристотель. Между ними существовала та разница, что первый, блистательно следуя по пути своего предшественника Сократа, был убежден, что он не может найти ничего достоверного, и довольствовался изложением того, что ему казалось вероятным; с этой целью он принимал известные начала, посредством которых и пытался давать объяснения прочим вещам. Аристотель же обладал меньшим благородством мысли. Хотя Аристотель и был в течение двадцати лет учеником Платона и имел те же начала, что и последний, однако он совершенно изменил способ их объяснения и за верное и правильное выдавал то, что, вероятнее всего, сам никогда не считал таковым. Этими двумя богато одаренными и мудрыми людьми четыре указанных ступени были вполне достигнуты, и в силу этого они стяжали столь великую славу, что потомки более предпочитали успокаиваться на их мнениях, нежели отыскивать лучшие. Главный спор среди их учеников шел, прежде всего, о том, следует ли во всем сомневаться или же должно что-либо принимать за достоверное. Этот предмет поверг тех и других в страшные заблуждения. Некоторые из тех, кто отстаивал сомнение, распространяли его и на житейские поступки, так что пренебрегали пользоваться благоразумием в качестве необходимого житейского руководства, тогда как другие, защитники достоверности, предполагая, что эта последняя зависит от чувств, принимали достоверное прямо на веру. Это доходило до того, что, по преданию, Эпикур, выслушав все доводы астрономов, серьезно утверждал, будто Солнце не больше по величине, чем каким оно кажется. Здесь в большинстве споров можно подметить одну ошибку: в то время как истина лежит между двумя защищаемыми воззрениями, каждое из последних тем дальше отходит от нее, чем больше стремится впасть в крайность противоречия. Но заблуждение тех, кто излишне предавался сомнению, долго не имело последователей, а заблуждение других было несколько исправлено, когда узнали, что чувства в весьма многих случаях обманывают нас. Но, насколько мне известно, с корнем ошибка не была устранена, а именно: не было высказано, что правота присуща не чувству, а одному лишь разуму, отчетливо воспринимающему вещи. И так как лишь разуму мы обязаны знанием, достигаемым на первых четырех ступенях мудрости, то не должно сомневаться в том, что кажется истинным относительно нашего житейского поведения; однако не должно полагать это за непреложное, чтобы не отвергать составленных нами о чем-либо мнений там, где того требует от нас разумная очевидность. Не зная истинности этого положения или зная, но пренебрегая ею, многие из тех, кто желал быть философами для своего и последующих веков, слепо следовали Аристотелю и часто, нарушая дух его писаний, приписывали ему множество мнений, которых он, вернувшись к жизни, не признал бы за свои. А те, кто ему и не следовал (в числе таких было много превосходнейших умов), ничуть не менее проникались его воззрениями еще в юности, так как в школах только его взгляды и изучались;
поэтому их умы настолько были заполнены последними, что перейти к познанию истинных начал они не были в состоянии. И хотя я их всех ценю и не желаю навлекать на себя чужой гнев, порицая их, однако могу привести для своего утверждения некоторое доказательство, которому, полагаю, никто из них не стал бы прекословить. Именно, почти все они полагали за начало нечто такое, чего сами вполне не знали. Вот примеры. Никто не отрицает, что земным телам присуща тяжесть. Но если опыт даже ясно показывает, что тела, называемые тяжелыми, падают к центру Земли, мы из этого все-таки не знаем, какова природа того, что выступает под именем тяжести, то есть какова причина или каково начало падения тел, а должны узнавать об этом как-либо иначе. То же можно сказать о пустоте и об атомах, о теплом и холодном, о сухом и влажном, о соли, о сере, о ртути и обо всех подобных вещах, которые принимаются некоторыми за начала. Но ни одно заключение, выведенное из неясного начала, не может быть очевидным, хотя бы это заключение выводилось отсюда самым очевиднейшим образом. Откуда следует, что ни одно умозаключение (ratiocinio), основанное на подобных началах, не приводит к достоверному знанию хоть чего-нибудь и что, следовательно, оно ни на один шаг не может подвинуть далее в изыскании мудрости; если же что истинное и находят, то это делается не иначе как при помощи одного из четырех вышеуказанных способов. Однако я не хочу умалить чести, которую каждый из тех авторов приписывает себе как должное; для тех же, кто не занимается наукой, я в виде небольшого утешения должен посоветовать лишь одно: идти тем же способом, как и при путешествии. Ведь как путники, в случае если они обратятся спиной к тому месту, куда стремятся, отделяются от последнего тем больше, чем дольше и быстрее шагают, так что хотя и повернут затем на правильную дорогу, но не так скоро достигнут желанного места, как если бы находились в покое, – так точно случается с теми, кто пользуется ложными началами: чем более заботятся о последних и чем больше стараются о выведении из них различных следствий, считая себя хорошими философами, тем дальше уходят от познания истины и мудрости. Отсюда должно заключить, что всего меньше учившиеся тому, что до сей поры обыкновенно обозначали именем философии, наиболее способны к верному пониманию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: