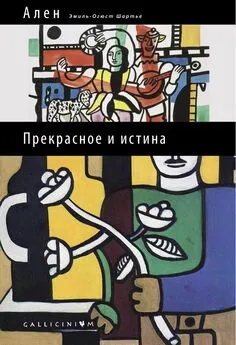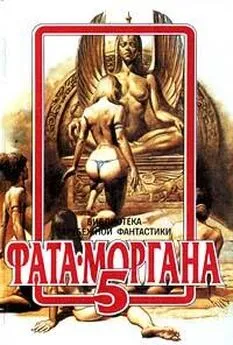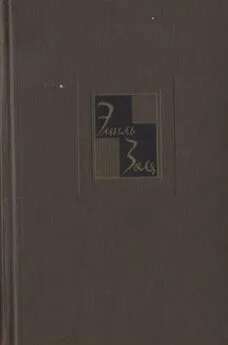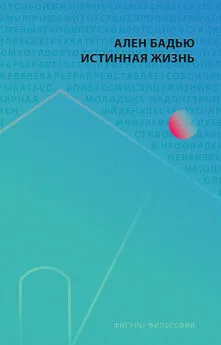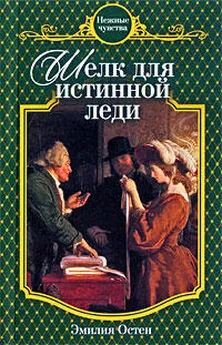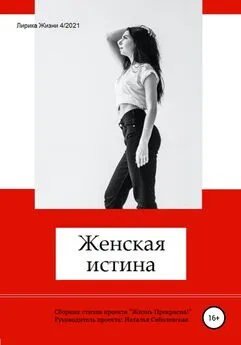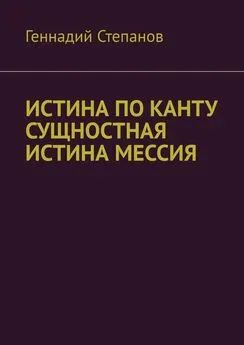(Эмиль Ален - Прекрасное и истина
- Название:Прекрасное и истина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:1910
- ISBN:978-5-906823-34-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
(Эмиль Ален - Прекрасное и истина краткое содержание
Прекрасное и истина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
попутно и в качестве не предполагающего оценки сопоставления можно заметить, что менталитету столь же типичного россиянина, скорее всего, соответствовал бы прямо противоположный жизненный принцип, очень просто «сформулированный» цитировавшимся чуть выше Давидом Самойловым, который, в качестве представителя именно этого типа, «советовал» своим читателям
«Не опускаться до того,
Чтобы руководил рассудок!» [29] Там же. С. 499.
.
вплоть до не только «прославившегося» чуть ли не абсолютизацией этого критерия (но при этом занимающего достаточно скромное место и в национальной и, тем более, в мировой философской табели о рангах) В. Кузена, но и великого Р. Декарта. Иными словами, это совсем не обязательно выдающийся интеллектуал (поскольку «…можно быть человеком большого ума и поступать ему вопреки десятки раз на дню»[347], что для поклоняющегося здравому смыслу француза, тем более для французского философа-традиционалиста и еще в большей степени – для более или менее явного картезианца, совершенно недопустимо), а, с одной стороны, рационально мыслящий теоретик, с другой же – искушенный в «плаваниях по житейскому морю» практик (из чего, возможно, и возникло желание «обозвать» выразителя подобных взглядов мелкобуржуазным философом; см. выше), собирательным и в то же время модельным образом которого мог бы, вероятно, служить Монтень.
С вопросом о здравом смысле теснейшим образом связаны рассуждения о мышлении, чему Ален уделил довольно много места на страницах своих книг. При этом сам мыслительный процесс в трактовке Алена выглядит довольно своеобразно: так, он пишет, что «мы всегда начинаем, как мне кажется, с нелепых мыслей, которые выправляем, изживаем и забываем – это называется мыслить; мыслить – значит управлять своими мыслями по двойной модели – неподатливого мира и здравого смысла»[162]. Отсюда вытекает, что мыслителю не нужно бояться «нелепостей», лезущих ему в голову и обусловленных, вероятнее всего, тем, что на первых порах определяющую роль в процессе мышления играет «неподатливый мир», их порождающий. «Думать – значит забывать о себе… – пишет картезианец (или нео картезианец), как видно, на время “вынесший за скобки” главный принцип картезианства “мыслю, следовательно, существую”. – Размышлять – это значит отправляться в путешествие, пусть и ненадолго»[68], а «…путешествовать – это сделать шаг или два, остановиться и оглядеть то, что только что видел, но под новым углом зрения»[11]. Что ж, путешествия действительно совершаются ради обретения и накопления новых впечатлений, нередко становящихся исходным материалом для дальнейших размышлений и активизирующих благодаря собственной событийной и смысловой насыщенности наше воображение. И все же последнее, если вспомнить хотя бы того же Декарта,
À propos: напомню, что, по Декарту, воображение «…представляет собой лишь частный род мышления о материальных вещах…» [30] Декарт Р . Соч.: В 2 т. Т. I. М., 1989. С. 271.
.
есть всего лишь особый тип мыслительного процесса. В связи с этим аленовский вывод о том, что «…мыслить – это выдумывать, не веря в выдуманное»[24], также не встраивается в картезианскую модель, противоречит другим высказываниям автора propos на ту же тему (поскольку при помощи одного и того же процесса трудно и «управлять своими мыслями», и «выдумывать, не веря в выдуманное») и выглядит как излишне широкое и лишенное внутренней последовательности и логики обобщение.
À propos: во всем этом проявляется противоречивость авторской позиции, истоки которой (и позиции, и отличающей ее противоречивости) следует искать, вероятно, в философии Конта (см. хотя бы аленовскую статью о Конте в настоящем издании), чьи идеи оказали большое влияние на ее автора.
Поэтому точнее было бы отнести приведенное замечание лишь к первому, условно говоря «безответственному», вероятно, наиболее увлекательному для индивида и зачастую даже обретающему художественную ценность этапу мышления, в рамках которого допустимы и нелепые мысли, и отсутствие контроля со стороны здравого смысла, а следовательно, и многое другое, что должно быть устранено впоследствии.
À propos: в связи с этим можно напомнить, что великий соотечественник и даже современник философа, размышляя о «начальном этапе» жизни стиха, имел в виду, по сути, «аленовскую» схему движения мысли:
«Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря…» [31] Верлен П. Искусство поэзии / Пер. Б. Пастернака.
.
Великий же русский поэт, задолго до рождения Алена рассуждая примерно о той же проблеме – только в прозе и в гораздо более масштабной ее постановке – также «по-аленовски» предположил, что «страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря» [32] Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1958. С. 101 102.
. Этот вывод гипотетически близок аленовскому: подчиняя мыслительный процесс контролю разума, об изначальных (и, не исключено, спонтанных) идеях, порожденных страстями (и, вполне вероятно, воображением), не испытывая в них необходимости, следует забывать…
И все же: а почему бы не попытаться сохранить хотя бы некоторые из них в памяти? Мне кажется, это только обогатило бы и ее и ее носителя/хранителя. Собственно говоря, именно так «на деле» и поступал сам Ален, что я в дальнейшем попытаюсь показать.
Сказаное может быть дополнено замечанием философа о том, что «мыслить – это значит отрицать»(116), в связи с чем на первый план выходят вопросы о позитивной составляющей мыслительного процесса и об ответственности индивида за его результаты: «Разумеется, думать приятно, но за удовольствие мыслить приходится расплачиваться искусством принимать решения»[237] (а также ответственностью за их реализацию, добавил бы я).
À propos: остается, правда, непонятным, представляет ли собой принятие решений самостоятельный интеллектуальный процесс, или оно является всего лишь одним из этапов – завершающим – мышления в целом?
В итоге получается, что двойственный характер всего хода развития мысли требует от индивида скорейшего прекращения «развлекательного» его этапа, включения механизма отрицания (как видно, содержащего в себе и «механизм забвения» [33] Не отсюда ли «растут» корни идеи/образа М. Бланшо, раскрытойого им в своей «камерной» работе под названием «Ожидание забвение» (СПб., 2000)?
) и непременного подчинения движения мысли контролю разума.
Интервал:
Закладка: