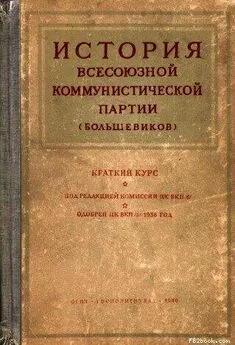Артур Шопенгауэр - Краткий курс истории философии
- Название:Краткий курс истории философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:1819
- ISBN:978-5-04-095593-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Шопенгауэр - Краткий курс истории философии краткое содержание
Краткий курс истории философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот, после того как Кант своей критикой умозрительной теологии нанес последней смертельный удар, он должен был постараться смягчить произведеннное этим впечатление, положив на рану какое-нибудь успокоительное средство в качестве противоядия, – подобно Юму, который в последнем из своих столь же поучительных, сколь и не поддающихся умалению «Диалогов об естественной религии» открывает нам, что все это была лишь шутка, простое exercitium logicum [95] Логическое упражнение (лат.).
. Сообразно тому и Кант в качестве суррогата доказательств бытия Божия дал свой постулат практического разума и вытекающую отсюда моральную теологию, которая, не имея никакого притязания на объективное значение для знания, или теоретического разума, сохраняет полную силу по отношению к поведению, или для разума практического, чем и была обоснована вера без знания, – чтобы у людей все-таки хоть что-нибудь было под рукою. Его изложение при надлежащем понимании имеет лишь тот смысл, что признание воздающего после смерти, справедливого Бога – удобная и достаточная регулятивная схема в целях истолкования чувствуемой нами серьезной этической значимости нашего поведения, а также для руководства этим самым поведением; иными словами, это – некоторым образом аллегория истины, так что в данном отношении, к которому ведь в конце концов и сводится все дело, такое признание может заступить место истины, хотя бы его и нельзя было оправдать теоретически или объективно.
Аналогичную схему с такой же тенденцией, но гораздо содержательнее, правдоподобнее и непосредственнее в своей ценности представляет собою догмат брахманизма об искупительном метемпсихозе, по которому мы должны со временем возродиться в образе каждого обиженного нами существа, чтобы претерпеть затем такую же обиду. В указанном смысле и надо, значит, понимать кантовскую моральную теологию, принимая при этом во внимание, что сам он не имел возможности высказаться об истинном положении дела с такою свободой, как делаем это мы здесь: нет, построив чудовищный образ теоретического учения с чисто практическим назначением, он рассчитывал на granum salis [96] Крупицу соли, тонкость (лат.).
у людей поумнее. Вот почему теологические и философские писаки последнего времени, чуждающегося кантовской философии, пытались по большей части придать делу такой вид, будто кантовская моральная теология – настоящий догматический теизм, новое доказательство бытия Божия. Но она совсем не имеет такого характера, а сохраняет свое значение исключительно в пределах морали, ради одной морали и ни на йоту больше.
«В объективном мы никогда не можем добраться до точки покоя, до чего-либо последнего и первоначального, ибо здесь мы находимся в области представлений»
Но и этим немецкие профессора философии довольствовались недолго, хотя кантовская критика умозрительной теологии и привела их в большое затруднение. Ибо они исстари видели свое специальное призвание в том, чтобы удостоверять бытие и свойства Бога и делать Его главным предметом своего философствования, так что если Писание учит, что Бог питает воронов в поле, то я должен прибавить: и профессоров философии на их кафедрах. Да и теперь еще они без всякого смущения уверяют, будто подлинный предмет философии – абсолют (как известно, новомодный титул для Господа Бога) и его отношение к миру, и по-прежнему заняты его ближайшим определением, раскрашиванием и фантастической отделкой. Конечно, правительства, платящие деньги за подобного рода философствование, хотели бы, чтобы из философских аудиторий выходили также добрые протестанты и прилежные богомольцы. Как же, следовательно, должны были почувствовать себя господа представители доходной философии, когда Кант совсем сбил их с толку своим доказательством, что все доказательства умозрительной теологии несостоятельны и что всякие сведения о ее главном предмете безусловно недоступны для нашего интеллекта? Сначала они прибегли к своему известному домашнему средству – пренебрежению, а затем к опровержению: но долго так дело идти не могло. Тогда одни принялись утверждать, что бытие Божие, не допуская доказательства, в то же время в нем и не нуждается, – что оно само собою разумеется, что это – неоспоримейшая вещь в мире, что мы никак не можем в нем сомневаться, что у нас есть «богосознание» [97] Говоря о генезисе этого богосознания, мы совсем недавно приводили удивительно наглядный пример, а именно: эстамп с изображением матери, которая своего стоящего на кровати на коленях со сложенными руками трехлетнего ребенка приучает к молитве – непременный, часто повторяющийся процесс, как раз и означающий генезис богосознания; ибо не подвергается сомнению: то, что мозг постигает в нежном возрасте в процессе первоначального развития, будучи сориентировано определенным образом, прочно срастается с богосознанием, как если бы оно действительно было врожденным. – Примеч. автора.
, что наш разум – орган для непосредственных знаний о сверхмирных вещах, что сведения о них непосредственно им уразумеваются ( vernommen ), почему он и называется разумом ( Vernunft )! Покорнейше прошу обратиться здесь к моему трактату о законе основания (во 2-м изд. § 34), равным образом – к моим «Двум основным проблемам этики», с. 148–154 (по 2-му изд., с. 146–151), наконец, еще к моей «Критике кантовской философии», с. 584–585 (по 3-му изд., с. 617–618). По другим, однако, разум дает одни лишь догадки, тогда как третьи, в свой черед, имеют даже интеллектуальные созерцания! Четвертые, далее, изобрели абсолютное мышление, т. е. такое, при котором человек не имеет нужды обращаться взором к окружающим вещам, а в божественном всеведении определяет, каковы они раз навсегда. Это, бесспорно, самое удобное из всех таких изобретений. Но все они хватаются за слово «absolutum» [ «абсолют»], которое и есть не что иное, как космологическое доказательство in nuce или, вернее, в столь сокращенной степени, что, став микроскопически малым, оно ускользает от чужих глаз и таким образом пробирается незамеченным и слывет за нечто разумеющееся само собою: ведь со времени кантовского examen rigorosum [98] Строгая проверка (лат.).
оно не смеет более показываться в своем подлинном виде – это точнее разъяснено мною во 2-м издании моего трактата о законе основания, с. 36 сл., а также в моей «Критике кантовской философии», с. 544 (по 3-му изд., с. 574). Кто именно впервые, около 50 лет тому назад, воспользовался уловкой – incognito провести под этим всеединым словом абсолют отвергнутое и изгнанное космологическое доказательство, – этого я уже теперь сказать не могу: но уловка эта была правильно рассчитана на свойства публики, – ведь абсолют и до сих пор продолжает быть ходкой монетой. Словом, вопреки критике разума и ее доказательствам у наших профессоров философии все-таки никогда не было недостатка в точных известиях о бытии Бога и Его отношении к миру – известиях, в подробном сообщении которых, по их мнению, собственно и должно заключаться все философствование. Но, как говорится, «на медные деньги – медный товар»; так обстоит дело и с этим их изобретением. Вот почему они и держат его под спудом или, вернее, под оболочкой звонких слов, так что едва виднеется от него один кончик. Если бы только можно было принудить господ профессоров отчетливо выяснить, что же собственно надо мыслить под словом «абсолют», то мы убедились бы, действительно ли он разумеется сам собою. Даже какая-нибудь natura naturans (в которую часто угрожает перейти их Бог) не разумеется сама собою, так как мы знаем, что Левкипп, Демокрит, Эпикур и Лукреций строят мир без ее помощи, – а эти мыслители, при всех своих заблуждениях, все-таки были гораздо достойнее, чем целый легион флюгеров, стяжательная философия которых поворачивается по ветру. Да и natura naturans еще далеко не была бы Богом. В понятии ее содержится, скорее, лишь та простая мысль, что за быстрой сменой преходящих и изменчивых явлений natura naturans должна таиться некая вечная и неутомимая сила, которая их постоянно возобновляет и которая сама остается не затронута их гибелью. Как natura naturata – предмет физики, так natura naturans – предмет метафизики. Последняя в конце концов приведет нас к сознанию, что сами мы тоже принадлежим к природе и, следовательно, в себе самих обладаем не только ближайшим и яснейшим, но даже единственно доступным для нас также и изнутри образчиком как natura naturata, так и natura naturans. Так как, далее, серьезная и точная рефлексия над самими собою заставляет нас признать ядром нашего существа волю, то мы имеем здесь непосредственное откровение natura naturans, которое мы вправе потом перенести и на все остальные существа, известные нам лишь односторонне. Таким путем мы и доходим до великой истины, что natura naturans, или вещь в себе, – это воля в нашем сердце, а natura naturata, или явление, – это представление в нашей голове. Но и независимо от этого результата очевидно, что простое различение natura naturans и natura naturata – далеко еще не теизм и даже еще не пантеизм, ибо для последнего (если не считать его пустой фразой) требуется присоединение известных моральных свойств, какие миру очевидно не присущи, например, доброты, мудрости, блаженства и т. д. Сверх того, пантеизм – это понятие, само себя уничтожающее, так как понятие Бога предполагает в качестве его существенного коррелята некий отличный от него мир. Если же мир сам принимает на себя его роль, то в результате и остается абсолютный мир, без Бога, так что пантеизм – это лишь эвфемистическое выражение вместо атеизма. Но и это последнее выражение со своей стороны представляет собою уловку, заранее принимая, будто теизм сам собою разумеется, и этим обходя правило, что affirmanti incumbit probatio [99] Чтобы утверждать, нужно доказать (лат.).
; на самом же деле jus primi occupantis [100] Право первого владения (лат.).
скорее имеет так называемый атеизм, и теизм должен еще сначала выбить его с позиции. Позволю себе по этому поводу замечание, что люди являются на свет необрезанными, следовательно, – не иудеями. Но даже и признание какой-либо причины мира, отличной от него, не есть еще теизм. Последний требует не только отличной от мира, но и разумной, т. е. познающей и волящей, следовательно, личной, а потому и индивидуальной мировой причины: именно такую и только такую причину и обозначает слово «Бог». Безличный Бог – это совсем не Бог, а просто злоупотребление словом, нелепость, contradictio in adjecto, лозунг для профессоров философии, которые, вынужденные поступаться сутью, пытаются пролезть с помощью слова. Но ведь, с другой стороны, личность, т. е. самосознательная индивидуальность, которая сначала познает , а затем согласно познанному волит , – это феномен, известный нам единственно только из имеющейся на нашей маленькой планете животной природы и настолько тесно с нею связанный, что мыслить его отдельно и независимо от нее мы не только не вправе, но даже и не в состоянии. Признавать же такого рода существо за источник самой природы, даже всего бытия вообще – это колоссальная и чрезмерно смелая мысль, которая, в первый раз услышанная, повергла бы нас в изумление, если бы нам не внушали и беспрестанно не повторяли ее с самых ранних пор и если бы через это она не сделалась для нас привычной, не стала нашей второй натурой, я готов сказать – нашей idée fixe. Вот почему, упомяну здесь мимоходом, ничто в моих глазах так сильно не удостоверило подлинности Каспара Хаузера , как сообщение, что преподанная ему так называемая естественная теология оказалась для него не особенно-то ясной, как того, однако, ожидали; вдобавок он (как видно из «Письма графа Стенгопа к школьному учителю Мейеру») проявил удивительное благоговение перед солнцем. Учить же в философии, будто рассматриваемая основная мысль теологии сама собою разумеется и будто разум – не что иное, как именно лишь способность непосредственно ее схватывать и признавать за верную, – это бесстыдная изворотливость. Не только в философии нельзя допускать подобной мысли без самого полноценного доказательства, но даже и для религии она совсем не так существенна; об этом свидетельствует самая богатая представителями религия на земле – древнейший, насчитывающий в настоящее время 370 миллионов последователей, в высшей степени нравственный, даже аскетический, и в то же время питающий самое многочисленное духовенство, буддизм: он такой мысли не допускает, напротив – прямо ее отвергает и по праву может быть назван ex professo [101] По специальности (лат.).
, употребляя наше выражение – атеистическим [102].
Интервал:
Закладка: