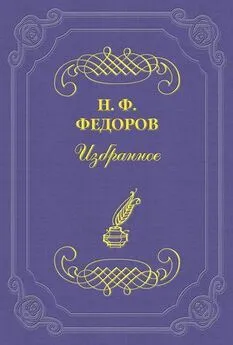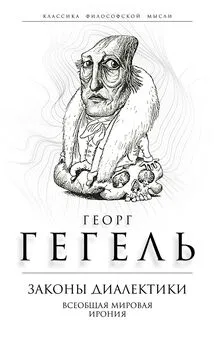Иммануил Кант - Категорический императив и всеобщая мировая ирония
- Название:Категорический императив и всеобщая мировая ирония
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907255-65-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иммануил Кант - Категорический императив и всеобщая мировая ирония краткое содержание
Георг Гегель (1770–1831) один из создателей немецкой классической философии. Самое важное понятие в философской системе Гегеля – законы диалектики, согласно которым всё в мире и обществе постоянно переходит из одних форм в другие, и то что сегодня кажется вечным, завтра рассыпается в прах. В этом заключается «всеобщая мировая ирония», по определению Гегеля.
В книге собраны наиболее значительные произведения Канта и Гегеля, посвященные данной теме.
Категорический императив и всеобщая мировая ирония - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот переход и на самом деле остается голой путаницей, поскольку нет сознания необходимости этого превращения. Но и внешняя рефлексия легко может сообразить, что, во-первых, положительное есть не некоторое непосредственно тождественное, а отчасти некоторое противоположное по отношению к отрицательному, и что оно лишь в этом соотношении обладает значением, следовательно, отрицательное само заключено в его понятии, отчасти же, что оно в себе самом есть соотносящееся с собой отрицание голой положенности или отрицательного, и, следовательно, само есть внутри себя абсолютное отрицание.
Равным образом отрицательное, противостоящее положительному, имеет смысл лишь в указанном соотношении с этим своим другим; оно, следовательно, содержит последнее в своем понятии. Но отрицательное обладает и без соотношения с положительным некоторым собственным устойчивым наличием; оно тождественно с собой; но таким образом оно само есть то, чем должно было быть положительное.
Противоположность между положительным и отрицательным понимается преимущественно в том смысле, что первое (хотя оно по своему названию выражает положенность) есть некоторое объективное, а последнее – нечто субъективное, принадлежащее лишь некоторой внешней рефлексии, ничуть не касающееся в-себе-и-для-себя-сущего объективного и совершенно не существующее для последнего.
И в самом деле, если отрицательное есть не что иное, как абстракция, созданная субъективным произволом, или определение, являющееся продуктом некоторого внешнего сравнения, то оно, разумеется, не существует для объективного положительного, т. е. последнее не соотнесено в самом себе с такой пустой абстракцией; но в таком случае определение, что оно есть некоторое положительное, также лишь внешне ему. Так, чтобы привести пример неподвижной противоположности этих определений рефлексии, мы укажем, что свет принимается вообще за нечто лишь положительное, а тьма за нечто лишь отрицательное. Но свет в своем бесконечном распространении и силе своей раскрывающей и животворяющей деятельности обладает, по существу, природой абсолютной отрицательности. Напротив, тьма как нечто немногообразное, или, иначе говоря, как не различающее само себя внутри себя лоно порождения, есть простое тождественное с собой, положительное. Ее принимают за исключительно лишь отрицательное в том смысле, что она как голое отсутствие света совершенно не существует для последнего, так что этот последний, соотносясь с нею, соотносится не с некоторым другим, а чисто с самим собой, и, следовательно, она лишь исчезает перед ним. Но, как известно, свет помутняется тьмой, сереет; и, помимо этого чисто количественного изменения, он претерпевает также и качественное изменение, состоящее в том, что благодаря соотношению с нею он определяется в цвет.
Подобным же образом, например, и добродетель также не существует без борьбы; она скорее представляет собой высшую, завершенную борьбу; таким образом, она есть не только положительное, но и абсолютная отрицательность; она также есть добродетель не только в сравнении с пороком, а есть в самой себе противоположение и борьба с ее противоположностью. Или, наоборот, порок не есть только отсутствие добродетели – ведь и невинность есть такое отсутствие – и отличается от добродетели не только для внешней рефлексии, а в самом себе противоположен ей, он есть нравственное зло.
Нравственное зло состоит в самодовлении, в сопротивлении добру; оно есть положительная отрицательность. Невинность же, как отсутствие и добра, и зла, безразлична к обоим определениям, не есть ни положительное, ни отрицательное. Но вместе с тем это отсутствие надлежит также брать как определенность, и, с одной стороны, ее следует рассматривать как положительную природу чего-то, а с другой стороны, она соотносится с некоторым противоположным, и все существа выходят из своего состояния невинности, из своего безразличного тождества с собой, соотносятся через самих себя со своим другим и вследствие этого пускают себя ко дну или, в положительном смысле, возвращаются в свое основание.
Истина также есть нечто положительное, как соответствующее объекту знание; но она есть это равенство с собой лишь постольку, поскольку знание отнеслось отрицательно к другому, пронизало собою объект и сняло отрицание, которым он является. Заблуждение есть нечто положительное, как мнение касательно того, что не есть само по себе сущее мнение, знающее и отстаивающее себя. Неведение же есть либо нечто безразличное к истине и заблуждению и, стало быть, не определенное ни как положительное, ни как отрицательное, так что определение его как некоторого отсутствия принадлежит внешней рефлексии, либо же, как объективное, как собственное определение некоторого существа, оно есть влечение, направленное против себя, некоторое отрицательное, содержащее в себе положительное направление.
Одно из важнейших познаний состоит в усмотрении и удержании того взгляда на эту природу рассмотренных определений рефлексии, что их истина состоит лишь в их соотношении друг с другом и тем самым состоит в том, что каждое из них в самом своем понятии содержит другое; без этого познания нельзя, собственно говоря, сделать и шагу в философии.
Если мы возьмем более определенно различие реальности, то оно превращается из разности в противоположность и тем самым в противоречие, а совокупность всех реальностей вообще – в абсолютное противоречие внутри самого себя. Обычный Horror (страх), который представляющее, неспекулятивное мышление испытывает перед противоречием, как природа перед vacuum (пустотой), отвергает это следствие; ибо это мышление останавливается на одностороннем рассмотрении разрешения противоречия в ничто и не познает его положительной стороны, по которой оно становится абсолютной деятельностью и абсолютным основанием.
Из рассмотрения природы противоречия получился вообще тот вывод, что если в той или иной вещи можно обнаружить некоторое противоречие, то это само по себе еще не есть, так сказать, изъян, дефект или погрешность этой вещи. Наоборот, каждое определение, каждое конкретное, каждое понятие есть, по существу, единство различных и могущих быть различенными моментов, которые через определенное, существенное различие переходят в противоречащие. Это противоречивое, во всяком случае, разрешается в ничто, оно возвращается в свое отрицательное единство.
Вещь, субъект, понятие оказываются теперь самим этим отрицательным единством; оно есть нечто в себе самом противоречивое, но вместе с тем также и разрешенное противоречие: оно есть основание, содержащее в себе и носящее свои определения. Вещь, субъект или понятие, будучи рефлектированы в своей сфере внутрь себя, суть свое разрешенное противоречие, но вся их сфера есть опять-таки некоторая определенная, разная; таким образом, она есть конечная, а это означает противоречивая. Не она сама есть разрешение этого более высокого противоречия, а она имеет своим отрицательным единством, своим основанием некоторую более высокую сферу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: