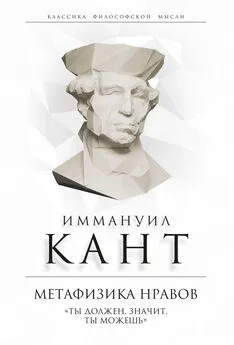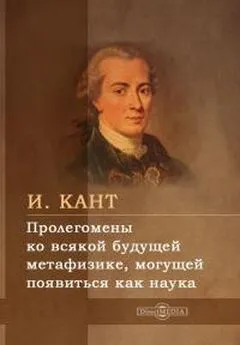Иммануил Кант - Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь»
- Название:Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907149-18-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иммануил Кант - Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» краткое содержание
В книге приводятся работы Канта о нравственности, истоках добра и зла в душе человека, а также об императивных законах, нарушение которых ведет к деградации личности.
Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во-первых , для одного долга имеется только одно- единственное основание обязательства, и если приводятся два или более оснований, то это явный признак того, что или вообще еще нет основательного доказательства, или речь идет не об одном долге, а о разных, которые принимают за один долг.
В самом деле, все моральные доказательства, если они философские, можно строить только посредством познания разумом из понятий , а не посредством конструирования понятий, как это делает математика. Математически конструированные понятия допускают множество доказательств одного и того же положения, так как в априорном созерцании может быть много определений природы объекта, которые ведут к одному и тому же основанию. – Если, например, для долга быть правдивым хотят строить доказательство сначала исходя из вреда , который причиняет другим ложь, а затем исходя из подлости лжеца и из нарушения уважения к самому себе, то в первом случае доказывался долг благоволения, а не правдивости, стало быть, не тот долг, который требовалось доказать, а другой. – Что касается большого числа доказательств одного и того же положения, чем иногда утешают себя, полагая, что множество доводов возмещает отсутствие основательности каждого довода, взятого в отдельности, то это весьма далекий от философии способ [доказательства], ибо он обнаруживает коварство и нечестность. – В самом деле, различные недостаточные основания, поставленные рядом, не прибавляют друг другу ни достоверности, ни даже правдоподобия. Как основание и следствие они должны продвигаться в одном ряду до достаточного основания и только таким образом обрести доказательную силу. – И тем не менее это обычный прием искусства убеждать.

Дом Канта в Кенигсберге, фото XIX века
Во-вторых , различие между добродетелью и пороком следует искать не в степени соблюдения определенных максим, а лишь в их специфическом качестве (в отношении к закону); иными словами, хваленое основоположение (Аристотеля) о том, что добродетель есть нечто среднее между двумя пороками, ложно. Допустим, что хорошее хозяйствование есть среднее между двумя пороками – расточительством и скупостью; в таком случае нельзя представить себе, что такое хозяйствование возникает как добродетель благодаря постепенному уменьшению первого из указанных пороков (благодаря бережливости) или благодаря большему расходованию того, что было предоставлено скупости, причем и то, и другое как бы по противоположным направлениям встречается в хорошем хозяйствовании; нет, каждый из этих пороков имеет свою максиму, необходимо противоречащую максиме другого.
Так же и на таком же основании никакой порок вообще нельзя объяснять осуществлением тех или иных намерений в большей степени, чем это целесообразно (е. g. prodigalitas est excessus in consumendis opibus), или в меньшей степени, чем подобает (е. g. avaritia est defectus etc.). Ведь этим степень не определяется, но именно по степени и можно установить, сообразно ли поведение с долгом или нет; так что это не может служить объяснением.
В-третьих , этический долг следует оценивать не по приписываемой человеку способности удовлетворять закон, а, наоборот, нравственную способность следует оценивать по закону, который предписывает категорически; следовательно, не по эмпирическому знанию, которое мы имеем о человеке, каков он есть, а по рациональному знанию о нем, каким он должен быть сообразно с идеей человечества. Эти три максимы научного рассмотрения учения о добродетели противопоставлены древним апофтегмам:
1. Есть только одна добродетель и только один порок.
2. Добродетель есть соблюдение середины между противоположными пороками.
3. Добродетели (подобно благоразумию) должно учиться на опыте.
Аффекты и страсти
Добродетель означает моральную твердость воли. Но это еще не исчерпывает понятия [добродетели]; ведь такая твердость могла бы быть присуща и святому (сверхчеловеческому) существу, в котором нет препятствующего побуждения, противодействующего закону его воли, и которое, следовательно, все охотно делает сообразно с законом. Таким образом, добродетель есть моральная твердость воли человека в соблюдении им долга , который представляет собой моральное принуждение со стороны его законодательствующего разума, поскольку этот разум сам конституируется как сила, исполняющая закон. – Сам разум или обладание им не есть долг (ведь иначе было бы обязательство к долгу), он предписывает и сопровождает свое веление посредством нравственного (возможного по законам внутренней свободы) принуждения; но для этого, так как это принуждение должно быть неодолимым, требуется твердость, степень которой мы можем определять только по величине препятствий, которые человек сам себе создает своими склонностями. Пороки, как порождение противного закону образа мыслей, суть чудовища, которые человек должен побороть, почему эта нравственная твердость, как храбрость (fortitudo moralis), и составляет величайшую и единственную истинную боевую честь человека; она называется также подлинной, а именно практической, мудростью, ибо она делает своей [целью] конечную цель существования человека на земле. – Только обладая этой мудростью, человек может быть свободен, здоров, богат, король и т. д., и ему не может быть причинен ущерб ни случайно, ни судьбой, так как он владеет самим собой, а добродетельный не может утратить своей добродетели.
Все прославления, касающиеся идеала человечества в его моральном совершенстве, ничего не теряют в своей практической реальности из-за примеров противоположности того, что люди представляют собой теперь, чем они были и чем они, вероятно, станут в будущем; антропология , возникающая из одних лишь опытных знаний, не может наносить никакого вреда антропономии , устанавливаемой безусловно законодательствующим разумом; и хотя добродетель (в отношении человека, а не закона) может иногда быть названа вменяемой в заслугу и достойной вознаграждения, но она сама по себе, поскольку она цель самой себя, должна рассматриваться как награда самой себя.
Для внутренней свободы требуются, однако, две вещи: в каждом данном случае справляться с самим собой (animus sui compos) и владеть собой (imperium in semetipsum), т. е. обуздывать свои аффекты и укрощать свои страсти. – Нрав (indoles) в обоих этих состояниях благородный (erecta), в противоположном же случае неблагородный (indoles abiecta, serva).
Аффекты и страсти существенно отличаются друг от друга: первые принадлежат чувству , поскольку оно, предшествуя размышлению, делает его невозможным или затруднительным. Поэтому аффект и называется внезапным , или резким (animus praeceps), а разум через понятие добродетели говорит, что должно владеть собой ; но эта слабость в применении своего рассудка, связанная с силой эмоций, есть лишь недобродетель и как бы нечто ребяческое и слабое, что вполне совместимо с самой доброй волей и содержит в себе единственно то доброе, что такая буря быстро утихает. Предрасположение к аффекту (например, гнев) не связано поэтому с пороком в такой степени, как страсть. Страсть же есть превратившееся в постоянную склонность чувственное желание (например, ненависть в противоположность гневу). Спокойствие, с которым предаются страсти, допускает размышления и позволяет душе создавать для них основоположения и таким образом, если имеется склонность к противозаконному, помышлять о ней, укоренить ее и тем самым (преднамеренно) принимать злое в свою максиму, что представляет собой в этом случае явно злое, т. е. истинный порок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: