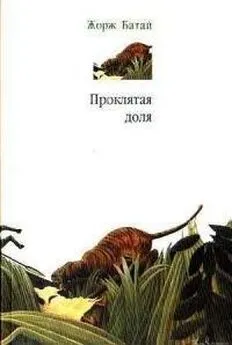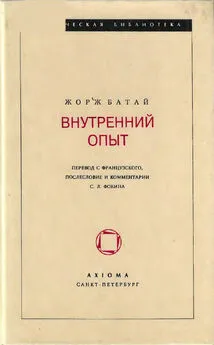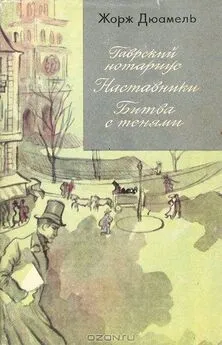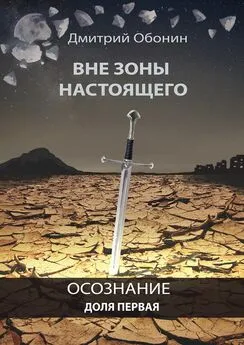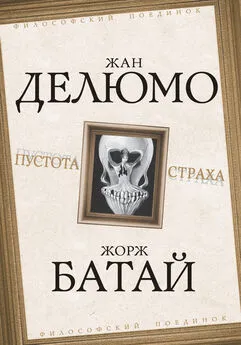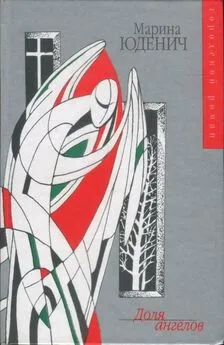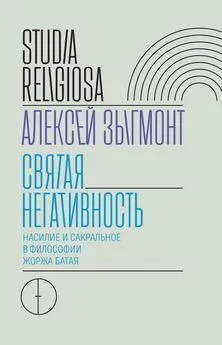Жорж Батай - Проклятая доля
- Название:Проклятая доля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2003
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Батай - Проклятая доля краткое содержание
Проклятая доля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что отличало тринадцатого Далай-ламу, так это то, что, выжив, он смог приобрести опыт власти. Хотя и при самых неблагоприятных обстоятельствах. Здесь он не мог руководствоваться никакими традициями. Его учителя дали ему монашеские знания, и он едва ли чему-то научился, кроме чарующих и умиротворенных ламаистских медитаций, пронизанных скрупулезным умозрением, глубокой мифологией и метафизикой. В тибетских монастырях обучение давало много знаний, и монахи были большими мастерами по разрешению сложных контроверз. Но от такого воспитания можно ожидать, что оно скорее убаюкивает, нежели пробуждает в людях чувство политической необходимости. И особенно в этой неприступной части мира, добровольно закрытой от влияния извне. И особенно во время, когда единственными доггускаемыми в Тибет иностранцами были китайцы, которые не желали и не могли ничего сообщить тибетцам.
Тринадцатый Далай-лама открывал для себя мир - медленно, но с неослабным прилежанием и проницательностью. Он извлек пользу из годов изгнания, никогда не пренебрегая удобными случаями для приобретения познаний, полезных для навыков управления. Однажды, проезжая через Калькутту, где его принял вице-король Индии, он узнал, какими ресурсами обладают развитые цивилизации. После этого Далай-лама уже не мог не учитывать остального мира, где ему предстояло играть свою роль. Тибет в его лице осознал взаимодействие внешних сил, которые нельзя было безнаказанно отрицать или не учитывать. Точнее говоря, религиозная и божественная сила, каковой он был, признала свои границы, как и то, что без военной силы она ни на что не способна. Его власть была столь явно ограничена внутренним суверенитетом, главенством в священных церемониях и безмолвных медитациях, что с большой наивностью он предложил англичанам взять на себя обязанность по внешнему суверенитету и принятие решений по внешним связям Тибета; англичане должны были только, как и раньше, не вмешиваться во внутренние дела страны. (В то время такие условия принял Буган, но эта маленькая страна к северу от Индии - государство, чьи дела не представляют большого интереса.) Англичане не рассмотрели предложений Далай-ламы: они не желали в Тибете никакого влияния, кроме собственного, и хотели не обязанностей, а прав, ограничивающих права остальных. И вот, почти без поддержки и сил Далай-ламе суждено было предстать перед остальным миром, и эта задача его тяготила.
Никто ведь не может "служить двум господам". В свое время Тибет выбрал монахов и пренебрег царями. Весь престиж был пожалован ламам, которых окружили божественными легендами и обрядами. Такая система влекла за собой отказ от военной силы. Или, скорее, военная власть была мертва: тот факт, что престиж ламы уравновешивал царский, отнимал у царя возможность противостоять давлению извне. Царь перестал обладать той силой притяжения, что необходима для сбора достаточной армии. Но и суверен, который в таких условиях приходил царю на смену, лишь на первый взгляд был способен на это: он не наследовал военную власть, которую сам же и разрушил. Мир молитв одержал победу над миром оружия, но он все разрушил, не обретя взамен никакой силы. Чтобы победить, суверену нужно было обратиться киностранной помощи. И ему оставалось надеяться лишь на милость внешних сил, потому что внутри он разрушил все, что было способно сопротивляться.
Те случайные ослабления внешнего давления, после которых оно часто возобновлялось, позволили тринадцатому Далай-ламе выжить, но, в конце концов, предоставили ему лишь доказательство его немощности. Будучи тем, кем он был, Далай-лама, в сущности, не имел власти быть им. Согласно самой своей сущности он должен был исчезнуть в тот день, когда ему представилась возможность получить власть. Возможно, судьба девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого Далай-лам, убитых по достижении совершеннолетия, была не столь уж жестокой. А видимая удача тринадцатого Далай-ламы, возможно, была его несчастьем. Однако этот Далай-лама постарался извлечь из удачи все возможное; он добросовестно принял облеченность властью , которую невозможно было осуществить, которая по своей сущности была обращена вовне и извне не могла ожидать ничего, кроме смерти. И тогда Далай-лама решил отречься от своей сущности.
5. Бунт монахов против попытки военной организации
Воспользовавшись передышкой (усталость китайцев, а затем китайская революция), сначала позволившей Далайламе выжить, а потом преодолеть трудности, он замыслил вернуть Тибету могущество, которое отнял у него ламаизм. Решить эту задачу ему помогали советы его английского биографа. Чарльз Белл, как служащий индийского правительства, в конце концов склонил Англию к дружественной политике по отношению к Тибету. В непосредственной военной помощи Тибету по-прежнему отказывалось, о поставках вооружения не могло быть и речи, но когда Чарльз Белл исполнял в течение года официальную миссию, он "от своего имени" поддержал Далай-ламу в попытке создать военную организацию. Речь шла о том, чтобы постепенно - за двадцать лет - довести численность армии с шести до семнадцати тысяч человек! Расходы на эту операцию должен был обеспечить налог на имущество мирян и монахов. Авторитет Далай-ламы обязывал знатных людей пойти навстречу. Но если Далай-ламе легко было лично отказаться от своего имущества и если в этом еще можно было убедить министров и сановников, то нельзя было внезапно лишить все общество его сущности.
Возмущение охватило не только монашеские ряды, но и весь народ. Рост армии, даже самый небольшой, уменьшал значение монахов. Ведь в этой стране нет таких слов, обрядов, праздников, умонастроений - иначе говоря, человеческих жизней, - которые не зависели бы от монахов. Все вращается вокруг них. Если кто-нибудь - паче чаяния - захотел бы отвернуться от них, он все равно должен был бы именно у них искать и смысл своего поступка, и способ для самовыражения. Приход нового элемента, который больше не ограничивался бы выживанием, но который бы рос, оправдать можно было лишь голосом монахов. Смысл всякого действия и всякой возможности до такой степени задавался монахами и для монахов, что редкие поборники армии представляли ее единственным средством для поддержания религии. В 1909 году китайцы жгли монастыри, убивали монахов, уничтожали священные книги. Но ведь сам Тибет по своей сути и есть монастырь. "Что толку бороться за утверждение какого-то принципа, - спрашивали монахи, - если борьба, в первую очередь означает отказ от принципа?" Один знаменитый лама из Лхасы объяснил это Чарльзу Беллу так: "Увеличивать численность тибетской армии бесполезно: ведь на самом деле "книги" говорят, что Тибет время от времени будет подвергаться нашествиям чужеземцев, но они никогда не останутся тут надолго". Уже сама забота монахов о сохранении своего положения, настраивавшая их против содержания армии (которая воевала бы с чужеземцами), заставляла их бороться на другом уровне. Зима 1920-1921 гг. оказалась чревата угрозами мятежей и гражданской войны. Однажды ночыо в различных людных местах Лхасы появились плакаты, призывающие народ убить Чарльза Белла. 22 февраля начался праздник Великой Молитвы, собравший в Лхасу от 50 до 60 тысяч монахов. Часть этой толпы прошла по городу с возгласами: "Идите с нами и сражайтесь! Мы готовы отдать наши жизни". Праздник развертывался в атмосфере напряженности. Поборники армии, да и сам Белл, посещали феерические церемонии, присоединялись на улицах к толпе, стараясь достойно встретить бурю и выжидая, во что выльется грозившее им внезапное возмущение. Затем последовала достаточно легкая чистка монашеских рядов, проведенная с исключительной эффективностью, и бунт потерпел крах. Военная политика Далай-ламы была благоразумной: она основывалась на элементарном здравом смысле, и всеобщая враждебность не могла противопоставить ей ничего достойного. Дело, за которое боролись монахи, стало оборачиваться предательством не только Тибета, но и самого монашества. Монахи столкнулись с большой внутренней стойкостью правительства, и их дело оказалось заранее проигранным. Но удивляет здесь не провал бунта, а то, что первое движение толпы встретило его столь пламенной поддержкой. Надо искать глубинные причины этого парадокса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: