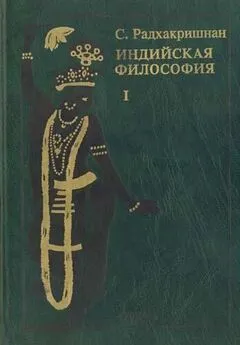Владимир Шохин - Индийская философия. Шраманский период
- Название:Индийская философия. Шраманский период
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство С.-Петербургского университета
- Год:2007
- Город:С.-Петербург
- ISBN:978-5-288-04085-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шохин - Индийская философия. Шраманский период краткое содержание
Книга может быть рекомендована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей и для всех интересующихся восточной культурой и философией.
Индийская философия. Шраманский период - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так, загадки на темы мистической космологии нередки и в Атхарваведе, где, например, выделяются гимны, посвященные первоначалу Скамбха (букв, «опора», «столб», «колонна» мироздания). В Скамбхе заложены миры, космический жар и космический закон, но сам он непостижим, и стихи сопровождаются рефреном: «Поведай про этого Скамбху: каков же он?» (X. 7, cp. X. 8). Атхарваведа развивает вариации на темы космологических спекуляций Ригведы: специальные гимны посвящены абстрактному женскому божеству Вирадж, «которая одна станет этим миром» (VIII. 10), а также Желанию (Кама), возникшему вначале как «первое семя мысли» (XIX. 52). Но здесь обнаруживается и новое начало мира — Время (Кала), которое собирает миры, охватывая их, будучи одновременно их породителем и порождением, сосредоточивая в себе мысль, дыхание, имя и аскетический жар. В Атхарваведе рассматривается, помимо названного, и Священное Слово — Брахман , которой уже видится высшей сущностью, составляющей основу мироздания (IX. 2; X. 2, 7–8; XI. 4, 8; XIX. 52–54 и т. д.).
В Белой Яджурведе [28], помимо введения новых сущностей, типа Мысли ( манас ) как «бессмертного света» в человеке (XXXIV. 1–6), воспроизводятся диалоги между хотаром и адхварью, которые обмениваются загадками об устройстве мира, в коих можно усмотреть отражение словесного состязания- брахмодьи , ставшего культовым истоком будущей мировоззренческой полемики — определяющего модуса философствования в индийской культуре (XXIII. 45–48).
В брахманах — базовых экзегетических памятниках Ведийского корпуса, — где сама экзегеза сакрального слова и действа построена на сложных и многоступенчатых корреляциях элементов жертвоприношения, человека и мироздания, выявляются, помимо названного, соотносительные приоритеты слова, мысли и первоначало мира — в виде как натуральных феноменов, так и мысли. По-новому переосмысляется и старый вопрос о том, что лежит у истоков мироздания — сущее или не-сущее. Здесь же мы впервые встречаемся с представлением о повторных смертях ( пунармритью ), которое станет истоком учения о реинкарнации. Наконец, в брахманах обнаруживается и начало знаменитой идентификации внутреннего ядра микрокосма с мировым первоначалом — Атмана и Брахмана (Айтарея-брахмана VIII. 28; Шатапатха-брахмана I.4.5.8-11; VI. 1.1.1; X.5.3.1–2, 6.3.1–2; XI.1.6.1 и т. д.).
В араньяках, помимо указанного, прочерчиваются корреляции органов человека, соответствующих способностей и феноменов природного мира. Здесь же выражено представление об Атмане как достигающем все большей «чистоты» сообразно с иерархией живых существ, и при этом подчеркивается особое место человека в мире (Айтарея-араньяка II. 3. 1–2; II. 4. 1 и т. д.).
Наконец, в добуддийских упанишадах — древней «редакции» индийского гносиса — в многообразных контекстах диалогов соперников, а также наставников и учеников рассматриваются Атман, Брахман и Пуруша — как жизнеобразующие начала мира и индивида, пять жизненных дыханий-пран, состояния сознания в бодрствовании, сне и глубоком сне, способности чувств и действий ( индрии ), ум- манас и распознавание- виджняна (Брихадараньяка I. 3. 1; III. 7. 16–23) — и проводятся наблюдения над механизмом познавательного процесса (Брихадараньяка II. 4. 7–9; IV. 5. 8–9). Знаменитые «великие речения» упанишад — «Я есмь Брахман» (Брихадараньяка I. 4. 10), «Тот Атман есть, поистине, Брахман» (Брихадараньяка IV. 4. 5), «Ты еси То» (Чхандогья VI. 816) — предназначались для медитативной интериоризации адептом эзотерических жреческих школ переданной ему тайной истины, тогда как формула «Кто, поистине, знает того высшего Брахмана, [сам] становится Брахманом» (Мундака III. 2. 9) означала «программу» инициации в мистерию тайнознания. Атман = Брахман — непостижимое единство, поскольку «нельзя познать познающего», который определяется поэтому через отрицания: «не то, не то…» (Брихадараньяка II. 3. 6). В упанишадах впервые формулируется так называемый закон кармы , устанавливающий причинные отношения между поведением и знанием человека в настоящем и его реинкарнацией в будущем (Брихадараньяка VI. 2. 16; III. 2. 14, IV. 4. 5 и др.), а также учение о сансаре — круге перевоплощений индивида в результате действия закона кармы (Чхандогья V. 10. 7; Каушитаки I. 2 и др.), и об освобождении из круга сансары знающего ( мокша ) в результате искоренения аффектированного сознания (Тайттирия II. 9 и др.) [29].
Если в загадках, задаваемых ведийскими риши, историки индийской философии видят начало философских спекуляций в Индии, то в построениях тех риши, о которых рассказывают древние упанишады — уже начало индийской метафизики, т. е., говоря языком европейской философии, теории сверхчувственных начал сущего, исследование природы, модусов и видов бытия. Будем, однако, иметь в виду, что упанишады — это своеобразные антологии речений древних мудрецов, содержащие также факты их полулегендарной биографии как эзотериков-учителей, окруженных избранными учениками, которые посвящены в мистерию тайнознания.
Один из таких мудрецов — риши Уддалака Ару ни, посвящающий в свое тайнознание собственного сына Шветакету, является одним из главных персонажей Чхандогья-упанишады. Уддалака велел сыну, дабы тот не остался единственным в его роду брахманом лишь по происхождению, а не по знаниям, пройти искус ученичества у знатоков Вед. Проучившись у них, по обычаю того времени, двенадцать лет, Шветакету вернулся домой «мнящий себя ученым». Отец, решив сбить с него спесь, интересуется, узнал ли он о том наставлении, «благодаря которому неуслышанное становится услышанным, незамеченное — замеченным, непознанное — познанным». Сын спрашивает, что же это за наставление. Ответ отца его удивляет. Оказывается, это такое наставление, благодаря которому все узнается подобно тому, как по одному куску глины выясняется, что всякое изменение глины — лишь имя, а действительное — сама глина. И далее все повторяется на примере одного куска золота (все изменения золота — лишь имя, действительное — само золото) и одного ножичка для ногтей (все изменения железа — лишь имя, действительное — само железо). Сын предполагает, что его почтенные учителя этого наставления не знали (иначе они просвятили бы его), и просит отца наставлять его дальше (VI. 1. 1–7). Уддалака вводит его в разномнение учителей относительно происхождения мира и утверждает, что вначале все было сущим, хотя «некоторые говорят» (вспомним о ведийских риши), что вначале было все не-сущим. Он с ними не соглашается: «Как из не-сущего возникло сущее? Нет, дорогой, вначале это было сущим, одним, без второго» (VI. 2. 1–2). И здесь читатель этого текста по «реалистической онтологии» ждет, наконец, аргументации в пользу столь значимой точки зрения (хотя бы самого простенького довода в пользу положения ex nihilo nihil fit) и… никак ее не обнаруживает. Вместо этого Уддалака рассказывает сыну миф, что это единое Сущее пожелало размножиться, сотворило жар, тот, в свою очередь, — воду, а та — пищу (потому, поясняет он, там, где дождь, будет и обильная пища). Затем он рассказывает о трех видах живых существ, о трех образах (красный, белый, черный) огня, солнца, луны и молнии, о шестнадцати частях человека (которые он устанавливает посредством эксперимента), о природе сна и о том, как все сущее после смерти возвращается в то Сущее, которое вначале было «одним, без другого». Это наставление сопровождается назидательными примерами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: