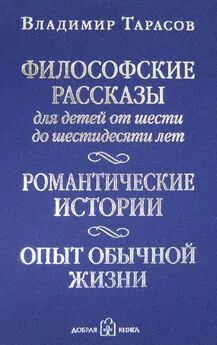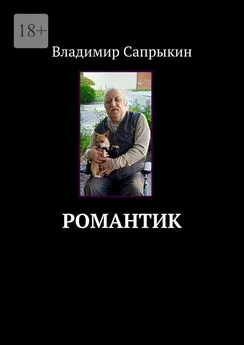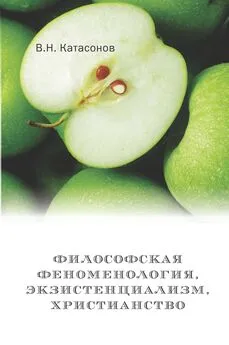Владимир Шохин - Философская теология: дизайнерские фасеты
- Название:Философская теология: дизайнерские фасеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт философии РАН
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9540-0301-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шохин - Философская теология: дизайнерские фасеты краткое содержание
Философская теология: дизайнерские фасеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
То, что после Канта появилась целая библиотека литературы по онтологическому обоснованию (я бы назвал его и деонтологическим, так как здесь сущее выводится из должного ), которая и сейчас пополняется публикациями его противников и почитателей [112] Среди последних я бы выделил уже цитированного Стивена Дэвиса, который уделяет «онтологическому доказательству» не только совершенно диспропорциональное по объему внимание в его сравнительно небольшой книге, посвященной всем признанным «доказательствам», и не только защищает его от оппонентов, но и измышляет и новую его форму, которую называет «Онтологическое доказательство № 2». См.: Davis S. Op. cit. P. 15–45, 139–144.
, объясняется двумя причинами. Первая из них та, что сам ход этого обоснования, как снова верно отмечал Плантинга, несомненно эвристичен и метафизически весьма содержателен: здесь и постановка вопроса о статусе высказываний о существовании, и об онтологии ментальных объектов, и о различии свойств эмпирических и ментальных объектов [113] Аналитический теист: Антология Алвина Плантинги. c. 113.
, и (что было актуализировано самим Плантингой), возможность апелляции к концепции возможных миров. Но дело не только в этом. Но и в том, что понимание Бога как Всесовершенного Существа и возможность фундирования этим всесовершенством всех отдельных божественных предикатов и атрибутов [114] Под предикатами в данном случае подразумеваются свойства Бога как личностного Абсолюта в виде всеведения, всемогущества и всеблагости, под атрибутами — Его «метафизические» свойства безначальности, неизменности, вездесущести и т. д.
, а также отчасти и действий в наибольшей степени соответствует теистическому мировоззрению как таковому (и пониманию его отличий от других религиозных мировоззрений), соответствуя и теистическому религиозному чувству.
И однако вся эта положительная заряженность данного «доказательства» не противоречит правомерности его характеристики у злого, но проницательного Артура Шопенгауэра в качестве софизма. А соотношение его с другими обоснованиями, да и всех членов «великой триады» друг с другом будет противоположным тому, каким его видел Кант, да и многие аналитические теологи, Канта не приемлющие, но упорно начинающие систему «доказательств» именно с него. И эта конфигурация не сможет не повлиять и на оценку стереотипного деления теистических обоснований на «основные» и «дополнительные».
Всесовершенное Существо не должно существовать на том основании, что существованию прилично входить в совокупность свойств, образующих его понятие, но оно может существовать, если имеются основания через другие аргументы предположить возможность наличия реального «кандидата» на его статус. Равно и предположение о Первопричине может быть реалистичным не вследствие предзаданного запрета на регресс причин в бесконечность, но при целесообразности допущения того же «кандидата» и на эту «должность». Но возможность номинирования искомого «кандидата» и осуществляется через ту «выборную процедуру», которая реализуется в абдуктивном дискурсе, соответствующем телеологичекому обоснованию. Осуществляемому здесь умозаключению от лучшего объяснения (см. § 2) уместно располагать, как и любой подлинной диалектической аргументации, кумулятивными основаниями: тут и не потерявшее востребованность рассуждение по аналогии, и reductio ad absurdum по отношению к альтернативным мирообъяснениям, и апелляция к «тонкой настройке». Из этого не следует, что обоснования онтологическое и космологическое должны быть просто «уволены с работы», но их «работа» уже второго порядка: задействуемые в них аргументы могут обогатить нас в понимании характеристик того, существование чего обосновывается не через них.
Телеологическое обоснование является, однако, не единственным из тех, которые могут привести к основному референту теистического мировоззрения. Речь идет и о других известных обоснований от здравого смысла (см. § 2). И трудности в объяснении чувства морального долженствования, не сводимого к мотивациям выживания, выгоды и удовлетворения природных потребностей, в оголенном мире атомов, пустоты и эволюции; и неправдоподобность того, чтобы и человечество в своем религиозном большинстве и первостепенные гении философии и науки (от Парменида и Платона до Бора и Гейзенберга) как один заблуждались, не допуская того, что мир ограничен одной лишь сферой чувственно воспринимаемого, дают, вместе с телеологической аргументацией, весьма убедительную кумулятивную аргументацию в пользу теистических верований. Эти, и другие обоснования того же типа (см. ниже) являются не только основными, но и единственными. Тогда как все обоснования от анализа философских понятий (см. § 2) только достраивают не ими могущий быть возводимым каркас теистического мироздания.
Что касается наиболее признанных «вторичных» обоснований существования Бога, то они по своей типологии распределяются на самом деле на две неравные группы. Обоснование от нравственного сознания (в его льюисовской версии [115] К.-С. Льюис оживил это обоснование после достаточно длительного перерыва, представив его в качестве типичной аргументации от лучшего объяснения. А именно, он поэтапно продемонстрировал недостаточность объяснения чувства нравственного долженствования культурными факторами, действиями инстинктов, следствиями общественного договора и социальными потребностями. См.: Льюис К.С. Просто христианство / Пер. с англ. И. Череватой. М., 2005. c. 17–31.
), от религиозного опыта (см. § 3), от чудес (феноменов, трудно объяснимых естественными причинами), от сознания (аргументация от предпочтительности дуалистического объяснения ментальных феноменов в сравнении с объяснением физикалистским [116] См., к примеру: Moreland J.P. The Argument from Consciousness // The Blackwell Companion to Natural Theology / Ed. by W.L. Craig and J.P. Moreland. Oxf., 2009. P. 282–343.
), от познания (аргументация от контринтуитивности эволюционистского объяснения рационально-логической структуры человеческого мышления [117] Reppert V. The Argument from Reason // The Blackwell Companion to Natural Theology. P. 344–390.
) несомненно относятся к классу абдуктивных заключений от здравого смысла, равно как и совсем ныне забытый аргумент Декарта, по которому идея Бесконечного Существа могла бы быть «внедрена» в сознание конечных существ только им самим [118] Вначале Томмазо Кампанелла, а затем Декарт рассуждали методом исключения, что идея Бесконечного Существа не может происходить от опыта, в котором конечный субъект встречается только с конечными феноменами. Очевидно, что здесь много общего с декартовской концепцией врожденных идей, имеющей и платоновские истоки, но еще больше с ансельмовским умозаключением, исходящим из того, что у любого индивида должно быть изначальное представление о том, больше чего ничего нельзя помыслить (как своего рода «актуальной бесконечности»).
. А вот обоснование этическое в его кантовской версии есть скорее уже апелляция к теории — в начальном значении последнего слова (theoria), соответствующем духовному видению-созерцанию [119] О значении и происхождении, а также о культурной значимости theoria см. классическое исследование: Picht G. Der Sinn und Unterscheidung von Theorie und Praxis in der griechischen Philosophie // Idem. Wahrheit, Vernunft, Verantwortun: Philosophische Studien. Stuttgart, 1969. S. 108–134.
. И в самом деле, постулаты чистого практического разума мыслились их создателем не как доказательства (что он и подчеркивал), но как скорее интуиции этого разума, убежденного в том, что исполнение нравственного закона «показывает» нам свободу человеческой воли, бессмертие души и самого Законодателя [120] Кант подчеркивал с самого начала, что эти постулаты «не суть теоретические догматы, но предположения в необходимо практическом рассмотрении» ( Kant I. Gesammelte Schriften / Hrsg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Bd. V. B., 1908. S. 132).
. Из перечисленных абдуктивных заключений декартовское, которое можно рассматривать в определенном смысле как применение «онтологического доказательства», было справедливо забыто (в противоположность своему «исходнику», который очень многим обязан своей «раскруткой» беспощадной критике Канта), а заключение от психофизического дуализма — несомненно весьма значимое (принятие существование Бога зависит от возможности признания нематериальных сущностей как таковых), но слишком «длинное», само требующее обоснований и вполне совместимое и с нетеистическим мировоззрением [121] Вспомним о том, что идея «чистого субъекта», онтологически отделимого от любых, могущих быть объективируемыми начал (в том числе и в самом человеке) вполне уживалась и с выражено антеистическими доктринами в самом широком диапазоне — от дуализма пуруши и пракрити в философии санкхья-йоги до дуализма для-себя-бытия и в-себе-бытия у Ж.-П. Сартра — и от теизма далекими, вроде концепций «предмета познания» у знаменитого неокантианца Г. Риккерта.
. Заключение от сверхъестественных явлений, конечно, ближе к цели, и его можно «отобъяснить» в принципе только исходя из атеистической веры в то, что все чудеса — лишь то, что не познано еще наукой (которая, как известно, вообще-то «все может» [122] Об этом неплохо написано в «дайджесте» Ричарда Суинберна. См.: Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2006. c. 100–107.
). Но на мой взгляд этот аргумент является не столько самостоятельным, сколько входит в число тех, что образуют «семейство» физико-телеологического обоснования: большинство тех сверхъестественных вмешательств в течения событий, к которым апеллируют не только теистические, но и другие религии, целесообразно, «телеологично». К тому же семейству обоснования от замысла (дизайна) относится, в конечном счете, и аргумент от специфической конституции рационального человеческого сознания. Он также вполне может считаться вполне работающим — пока, по крайней мере, ученые не докажут наличие у животных абстрактно-понятийного и вербально нагруженного мышления. Что же касается знаменитого паскалевского «Пари», то этот аргумент, в противоположность только что рассмотренному декартовскому, оказался незаслуженно уважаемым, но его нельзя отнести ни к одной из двух групп. Он — неабдуктивный и не «созерцательный», но скорее «торгашеский»: не так мало людей, которые участвуют в обрядах «на всякий случай», но такая «диспозиция сознания» не может вести к реальной вере [123] Великому духовному писателю Б. Паскалю с ним так же не повезло, как В. Набокову с «Лолитой», поскольку в обоих случаях писатели прославились тем, что значительно ниже лучшего из того, что они создали. Любопытно также, что вопреки общему представлению об уникальности паскалевского пари, очень близкая диалектическая модель встречается в одном из текстов Палийского канона («Аппаннака-сутта» Маджджхима-никаи), где Будда советует материалистам, отрицающим другой мир ( паралока ), сравнить преимущества и недостатки веры и, соответственно, неверия в него для этой жизни и будущей. Согласно этому «практическому аргументу», если другого мира и нет, то отрицающий его подвергнется осуждению людей в этой жизни (как человек дурного поведения и с ложными взглядами), а если другой мир есть, то неверующий в него потерпит двойное поражение: и здесь его осудят, и по смерти он «обретет печаль, дурное рождение, погибель и ад». Таким образом, от паскалевского аргумента буддийский отличается лишь конфигурацией: в нем обсуждается не блага от веры, а зло от неверия. См.: Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007. c. 334–335.
.
Интервал:
Закладка: