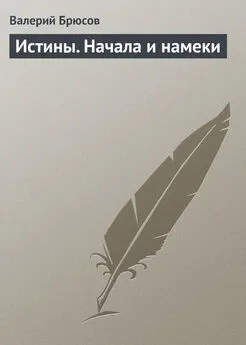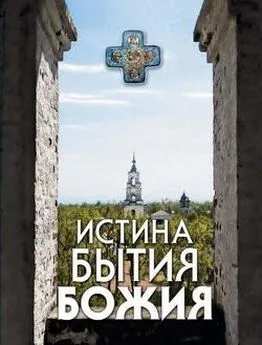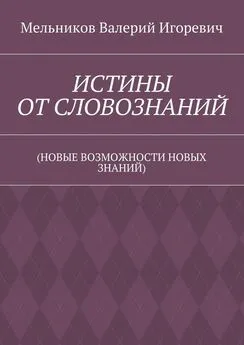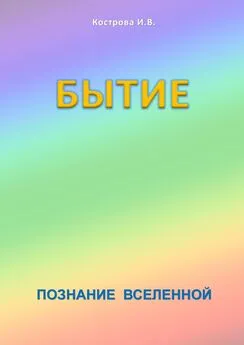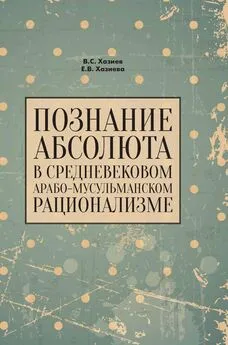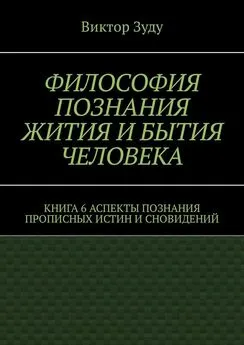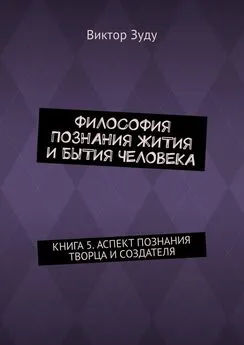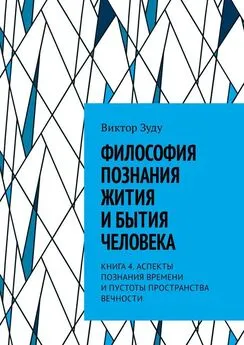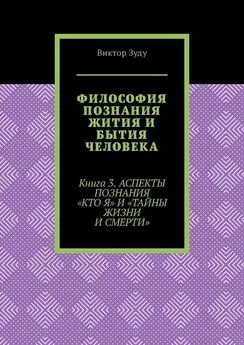Валерий Хазиев - Истины бытия и познания
- Название:Истины бытия и познания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Китап
- Год:2007
- Город:Уфа
- ISBN:978-5-295-04275-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Хазиев - Истины бытия и познания краткое содержание
Истины бытия и познания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это давно известно, хотя интеллектуально возбуждает и сегодня… Но это не та философия, которая, как известно, не терпит суеты, даже философоподобной.
9. Трагедия категории «онтологическая истина»
На первый взгляд может показаться некоторой натяжкой и странным — говорить о трагедии философской категории. Трагедии бывают разные: например, по масштабам и предмету — человека, семьи, народа, государства, даже человечества; вымирающих видов животных и растений, разрушенных планет, угасающих звезд, гибнущих галактик. Но трагедия категории?..
Если заслуженного писателя шельмуют или замалчивают, как, скажем, было с М. А. Булгаковым, это, несомненно, трагедия. А как быть, если такая же судьба выпала на долю философской категории? Думается, термин «трагедия» подходит в точном смысле. Давайте посмотрим и рассудим вместе. Речь пойдет о категории «онтологическая истинность вещи», или, как называют короче, просто об «онтологической истине».
«Онтологическая истина» в средневековой философии означала истинность вещей (verities rerum), определяемая как соответствие существования (exsistetia) вещи ее собственной божественной сущности (essentia) {64} 64 Латинские формулы этих видов истины дает М. Хайдеггер в своей ставшей популярной работе «О сущности истины» //Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
. Последняя объявлялась духовной и привнесенной в вещь из сверхъестественного мира. Таким образом, онтологической истиной (или онтологической истинностью вещи) называлось соответствие естественного существования вещи сверхъестественной духовной, неизменчивой, навеки вечные константной и божественной сущности. Изменчивое существование должно было соответствовать неизменной сущности, конечное и временное бытие вещей — их вечному и бесконечному бытию, смертное — бессмертному, тварное — божественному. Средневековая теоцентричная философия в лице философской школы «реализма» признавала и гносеологическую истину — истинность знаний человеческого сознания, которая представлялась постижением онтологической истинности вещей. Средневековый номинализм ограничивал категорию истины лишь сферой гносеологии, т. е. признавал лишь истинность знания: логическую истинность — соответствие одних знаний другим, истинность которых определена заранее или подкреплена авторитетом, или обусловлена правилами логики, или задана аксиоматически, а также предметную истинность — определяемую соответствием знаний отражаемой действительности. Впоследствии первая получила название «гносеологической когеренции», вторая — «гносеологической корреспонденции».
Кроме рассмотренных видов онтологической и гносеологической истинности у Фомы Аквинского просматривается еще одна интересная мысль о сфере применимости характеристики «быть истинным». Он говорит об истинности вещей, созданных людьми. «Истина состоит в том, чтобы вещь соответствовала интеллекту; так о ремесленнике говорят, что он сделал истинную вещь, когда она отвечает правилам ремесла» {65} 65 Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1.4. 2. С. 837.
. Истинность таких вещей определяется через их соответствие той идеальной мысли-цели человека, в соответствии с которой люди эту вещь сделали. Это своеобразный вариант онтологической истины. Созданная человеком вещь должна соответствовать тем знаниям (субъективной цели в голове человека), используя которые человек сумел сделать вещь, отсутствующую в природе в естественном виде. Существование такой вещи должна соответствовать не божественной мысли (эссенции), а человеческой. Истинность вещи определяется через соответствие скрытой в ней мысли, но не объективной идеи, как у Платона, и не божественному духу, как в средневековой теоцентричной философии, а человеческой. Вещь, изготовленная (произведенная) человеком, должна соответствовать тем истинным знаниям, на основе которых она создана. Тогда она будет онтологически истинной. Самолет, который не летает, хлеб, который нельзя есть, учитель, который не учит, — все примеры «вещей», которые соответствуют не истинным знаниям или не соответствуют истинным знаниям. В том и другом случае они онтологически ложны. Оставим пока в стороне ясно просматривающуюся интересную мысль, что вся реальность мироздания оказывается в диапазоне от абсолютной истинности до абсолютной ложности. Между этими полюсами находится все, что есть в действительности, и все является единством относительной истинности и ложности в разной степени. Более того, в нашем конечном мире нет абсолютной истины, ибо нет и не может быть абсолютного соответствия существования вещи ее сущности. В мире, где движение абсолютно и покой относителен, все конечные вещи подвергаются внешнему воздействию других (диалектический принцип всеобщего взаимодействия) вещей, деформирующих их существование от полного соответствия сущности. Но для каждой конечной вещи есть собственная абсолютная ложность — разрушение, уничтожение, смерть, небытие, переход в инобытие.
Материалисты Нового времени в своей борьбе против теоцентричной средневековой философии вместе с ее догматизмом, схоластичностью, теоцентричностью отказались и от онтологической истины. «Вместе с водой выплеснули и ребенка», как сказал бы классик. Здесь не все ясно, и требуется специальный анализ социальных, гносеологических и психологических причин отказа французскими и английскими материалистами XVII–XVIII веков от возможности «материалистического прочтения» концепции онтологической истины. Возможно, одна из причин — авторитет Аристотеля, на которого ссылались в своих спорах с реалистами средневековые номиналисты, наследниками или приемниками которых считали себя материалисты Нового времени.
Действительно, у Аристотеля есть множество высказываний, которые легко трактуются как определение истинности знаний через соответствие предмету (корреспонденция) или другому знанию (когеренция). Но это не все. Внимательное прочтение работ Стагирита позволяет утверждать, что он вовсе не абсолютизировал гносеологическую трактовку истины, не ограничивал сферу применения понятия «истинно» лишь областью знаний. За неразработанным и неустоявшимся категориальным аппаратом легко различимы контуры применения им характеристики «быть истинным» и к предметам {66} 66 Хазиев В. С. Истина и культура философского мышления. Уфа, 1992; Философское понимание истины // Философские науки. 1992. № 9. Роса истины. Уфа, 1998.
. Чтобы не быть голословным, приведу лишь одно высказывание Аристотеля. «Наиболее истинно то, что для последующего есть причина его истинности. Поэтому и начала вечно существующего всегда должны быть наиболее истинными: они ведь истинны не временами и причина их бытия не в чем-то другом, а, наоборот, они сами причина бытия всего остального, так что в какой мере каждая вещь причастна бытию, в такой и истине» {67} 67 Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 95.
.
Интервал:
Закладка: