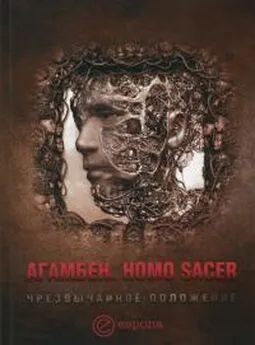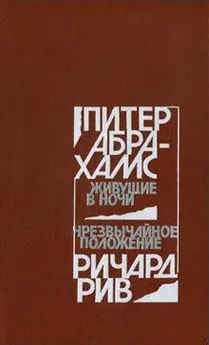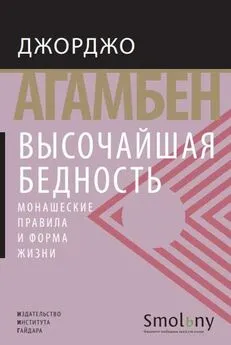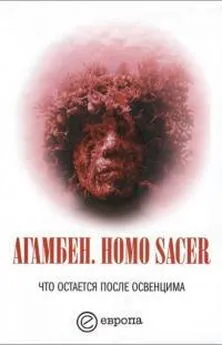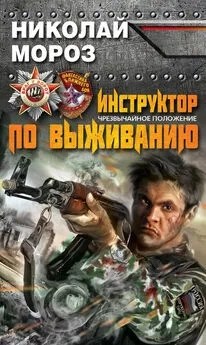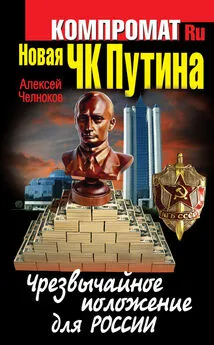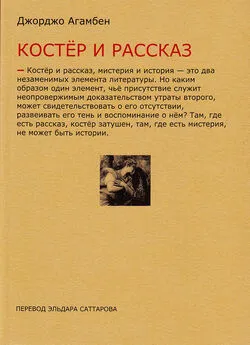Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Название:Homo sacer. Чрезвычайное положение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Чрезвычайное положение краткое содержание
Книга Агамбена — продолжение его ставшей классической «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» — это попытка проанализировать причины и смысл эволюции чрезвычайного положения, от Гитлера до Гуантанамо. Двигаясь по «нейтральной полосе» между правом и политикой, Агамбен шаг за шагом разрушает апологии чрезвычайного положения, высвечивая скрытую связь насилия и права.
Homo sacer. Чрезвычайное положение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
История 48–й статьи Веймарской конституции столь сильно переплетается с историей Германии между двумя мировыми войнами, что приход Гитлера к власти невозможно осмыслить без предварительного анализа использования и злоупотребления этой статьей между 1919 и 1933 годами. Ее непосредственной предшественницей была 68–я статья Конституции Бисмарка, которая, в том случае если «общественной безопасности на территории Империи что–то угрожало», давала императору право вводить на части этой территории военное положение ( Kriegszustand) и, дабы определить его условия, отсылала к прусскому закону об осадном положении от 4 июня 1851 года. В ситуации беспорядков и мятежа, характерной для послевоенного периода, депутаты Национального собрания, которым предстояло одобрить новую конституцию, по совету юристов, среди которых выделяется имя Гуго Прейсса, включили в конституцию статью, наделявшую президента рейха невероятно широкими чрезвычайными полномочиями. Текст 48–й статьи действительно гласил: «Если в немецком Рейхе возникает существенная ( erheblich ) угроза общественной безопасности и порядку, президент Рейха может принять меры, необходимые для восстановления общественной безопасности и порядка также с помощью военной силы. Для этих целей он может полностью или частично приостановить действие основных гражданских прав ( Grundrechte ), предусмотренных статьями 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153». Статья добавляла, что следует детализировать условия действия президентских полномочий в одном из законов. Поскольку этот закон так никогда и не был принят, исключительные полномочия президента остались крайне неопределенными: в итоге выражение «президентская диктатура» часто использовалось в правовой доктрине с отсылкой к 48–й статье, а кроме того, Шмитт мог писать в 1925 году, что «ни в одной из конституций земли, кроме Веймарской, не был столь легко легализован государственный переворот» [39] Цит. no: Schmitt, Carl. Staat, Großraum, Nomos. Berlin, 1995. P. 25.
.
Действующие правительства республики, начиная с кабинета Брюнинга, непрерывно обращались — с относительным перерывом между 1925 и 1929 годами — к 48–й статье, объявляя чрезвычайное положение и издавая чрезвычайные указы более чем в 250 случаях, в частности для того, чтобы заключить в тюрьму сотни коммунистических активистов и учредить особые суды, имевшие право осуждать на смертную казнь. Зачастую, например в октябре 1923 года, правительство прибегало к 48–й статье, стремясь предотвратить падение марки, подтверждая своими действиями современную тенденцию к сближению военно–политической чрезвычайной ситуации и экономического кризиса. Известно, что последние годы Веймарской республики целиком прошли в режиме чрезвычайного положения; менее очевидно утверждение, согласно которому Гитлер, возможно, не смог бы прийти к власти, если бы страна не находилась почти три года в режиме президентской диктатуры, а парламент продолжал бы действовать. В июле 1930 года правительство Генриха Брюнинга оказалось в меньшинстве. Вместо того чтобы уйти в отставку, Брюнинг добился от президента фон Гинденбурга права обратиться к 48–й статье и распустить рейхстаг. С этого момента Германия фактически прекратила свое существование как парламентская республика. В итоге парламент собирался всего семь раз в сумме не более чем на двенадцать недель, при том что неустойчивая коалиция социал–демократов и центристов бездействовала, со стороны взирая на правительство, зависимое уже исключительно от президента рейха. В 1932 году фон Гинденбург, вновь избранный президентом в соперничестве с Гитлером и Тельманом, вынудил Брюнинга уйти в отставку и назначил на его место центриста фон Папена. 4 июня рейхстаг был распущен и более не созывался до прихода к власти нацистов. 20 июля на прусской территории было объявлено чрезвычайное положение, фон Папен назначен рейхскомиссаром Пруссии, а правительство социал–демократов во главе с Отто Брауном было отстранено от власти.
Чрезвычайное положение, в котором находилась Германия в период президентства фон Гинденбурга, в конституционном плане обосновывалось Шмиттом следующим образом: президент действовал как «хранитель конституции» [40] Schmitt, Carl. Der Hüter der Verfassung. Tübingen, 1931.
; однако конец Веймарской республики ясно показывает, что «охраняемая демократия» демократией уже не является, а парадигма конституционной диктатуры скорее функционирует как переходное состояние, неизбежно ведущее к установлению тоталитарного режима. Учитывая все эти прецеденты, понятно, почему в конституции Федеральной республики не упомянуто чрезвычайное положение; тем не менее 24 июня 1968 года «большая коалиция» христианских демократов и социал–демократов одобрила закон о поправках к Конституции ( Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes), который вновь вводил чрезвычайное положение (определенное как «чрезвычайное положение внутри страны», innere Notstand ). По неосознанной иронии, впервые в истории института объявление чрезвычайного положения было предусмотрено не просто для охраны безопасности и общественного порядка, а для защиты самой «либерально–демократической конституции». Отныне охраняемая демократия стала нормой.
3 августа 1914 года Федеральное собрание Швейцарии передало Федеральному совету «неограниченные полномочия в принятии всех мер, необходимых для гарантии порядка, целостности и нейтралитета Швейцарии». Этот необычный акт, которым не участвующее в войне государство наделяло исполнительную власть еще более широкими и размытыми полномочиями, чем те, которые получили правительства стран, напрямую вовлеченных в боевые действия, интересен из–за возникших по его поводу дискуссий в самом собрании, а также в дебатах по случаю обвинений в неконституционности, предъявленных гражданами в швейцарский Федеральный суд. Упорство, с которым швейцарские юристы почти тридцатью годами прежде теоретиков конституционной диктатуры старались вывести (как Вальдкирх и Буркгардт) легитимность чрезвычайного положения из самого текста конституции (в статье 2 читаем, что «Конфедерация ставит целью защищать независимость отечества от чужестранцев и поддерживать порядок и спокойствие внутри страны») или (подобно Хорни и Фляйнеру) обосновать его правом крайней необходимости, «свойственным самому существованию Государства», или (как Гис) поставить акцент на правовой лакуне, заполнить которую призваны чрезвычайные распоряжения, показывает, что теория чрезвычайного положения никоим образом не является исключительным достоянием антидемократической традиции.
История и юридический контекст чрезвычайного положения в Италии представляют особый интерес с точки зрения законодательства путем чрезвычайных правительственных указов (так называемых decreti–legge, декрет–законов). Можно смело утверждать, что в этом смысле Италия выполняла функции самой настоящей политико–юридической лаборатории, в которой проходил процесс, в разной степени свойственный и другим европейским государствам, благодаря которому «декрет–закон» «из временного и чрезвычайного инструмента по производству норм превратился в обычный источник производства права» [41] Fresa, Carlo. Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi. Padova, 1981. P. 156.
. Отсюда, однако, следует, что именно государство, правительства которого не отличались особой стабильностью, выработало одну из основных парадигм трансформации парламентской демократии в демократию правительственную. Как бы то ни было, ровно в этом контексте явственно проступает принадлежность чрезвычайных указов к проблематичному пространству чрезвычайного положения. В статуте короля Карла Альберта (как, впрочем, и в действующей Конституции республики) не упоминалось чрезвычайное положение. Тем не менее правительства королевства часто прибегали к объявлению осадного положения: в Палермо и сицилийских провинциях в 1862 и 1866 годах, в Неаполе в 1862–м, в Сицилии и Луниджане в 1894–м, в Неаполе и Милане в 1898–м, где подавление беспорядков было особенно кровавым и дало повод к ожесточенным дебатам в парламенте. Объявление осадного положения в связи с землетрясением в Мессине и Реджо–Калабрии 28 декабря 1908 года лишь на первый взгляд является особым случаем. В действительности решающие мотивы введения там осадного положения относились к сфере общественного порядка (речь шла о том, чтобы унять грабителей и мародеров, воспользовавшихся катастрофой); кроме того, с точки зрения теории, показательно, что указанные случаи дали возможность Санти Романо и другим итальянским юристам разработать концепцию крайней необходимости как первичного источника права, на которой мы должны будем подробно остановиться.
Интервал:
Закладка: