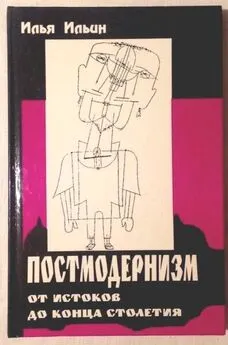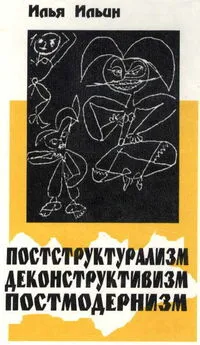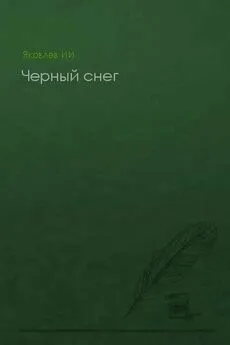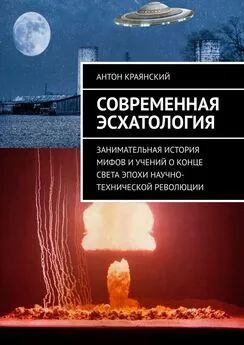Илья Ильин - Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа
- Название:Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Интрада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-87604-038-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Ильин - Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа краткое содержание
Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ситуация в семиотике: перенос внимания от вербальных знаков к невербальным
Однако самым кардинальным моментом наметившейся смены научной парадигмы, последствия которой пока трудно себе представить, является тенденция к пересмотру лингвистической природы знака. Последние 40 лет фактически все гуманитарные науки развивались в условиях подавляющего господства лингвистических моделей теоретической рефлексии. Результатом этого лингвистического переворота явилось то, что все стало мыслиться как текст, дискурс, повествование: вся человеческая культура — как сумма текстов, или как культурный текст, т. е. интертекст, сознание как текст, бессознательное как текст, «Я» как текст, — текст, который можно прочитать по соответствующим правилам грамматики, специфичным, разумеется, для каждого вида текста, но построенным по аналогии с грамматикой естественного языка.
Последовательные семиотики, — а не быть им в условиях современных научных конвенций едва ли возможно, — естественно, никогда не упускали из виду специфику функционирования невербальных знаков, но в основном отдавали предпочтение вербальным, и сознательно или бессознательно приписывали невербальным знакам свойства вербальных. Приблизительно со второй половины 80-х — начала 90-х годов фреймовая ситуация стала меняться: внимание исследователей стали все больше привлекать нелингвистические знаки социокультурного характера. Один из исследователей этого плана Хорст Рутроф, автор книг «Пандора и Оккам: О границах языка и литературы» (1992) и «Смысл: Интерсемиотическая перспектива» (1994), пишет в связи с этим: «Проблема заключается в знаковой монополии языка и низведении восприятия до некоего естественного чувственного процесса. Вместо этого мы нуждается в подходе, более близком духу Пирса. Любая схематизация реальности является знаковой. Дело в том, что все знаки, как когнитивные, так и коммуникативные, должны быть прочтены (подчеркнуто автором. — И. И.) и что всем этим процедурам чтения нужно научиться. Без внимания к проблеме интерпретации мы не смогли бы извлечь никакого смысла из высказывания, несмотря ни на какие привычные умозрительные предпосылки.
Если это так, то задача состоит в том, чтобы показать, как лингвистические и нелингвистические принципы означивания взаимодействуют друг с другом вопреки наглядной, хотя и относительной, несопоставимости не только вербальных и невербальных знаков, но и также разных невербальных систем обозначения. Несомненно, без невербального обозначения мы бы вообще не могли понимать смысл предложений. Это значит, что мы просто не можем читать, если находимся в рамках одной и той же знаковой системы. Лингвистическое нуждается для своей активизации в помощи нелингвистических знаков» (257, с. 89).
С. Исаев, говоря о театральном постмодернизме, отмечает, что в самом общем плане «для постмодернистских произведений характерна метасемантика, достигаемая с помощью различных коннотативных средств. Впрочем, все эти средства можно обозначить всего лишь одним словом — игра… С приходом постмодернизма наступает эпоха, когда в отношениях между искусством и смыслом исчезает какая-либо однозначность: теперь это отношение чисто игровое. Уравнивая в правах действительное и вымышленное, игра приводит к ситуации неограниченного числа значений произведения: ведь его смысл уже никак не связан с предсуществовавшей реальностью… При этом, конечно, весь без исключения театральный авангард делает ставку на свободу зрителя: без этого любое самое истинное и яркое сообщение оказалось бы всего лишь тривиальностью. В многозначном смысловом пространстве спектакля зритель получает право на риск, выбирая свою версию из числа возможных интерпретаций, — тогда и итог зрелища он рассматривает уже как свою собственную находку, как результат собственного свободного выбора. Расчет тут прежде всего на то, что для зрителя или адресата сообщения вступит в действие его свобода — выражение внутреннего существа человека, его спонтанного творческого порыва» (32, с. 7–8).
Специфика постмодернистской теории театра, как в принципе всякой авангардистской теории, заключается прежде всего в попытках дать научное обоснование новейшим экспериментам в данной области, — иными словами: найти теоретическое объяснение современной театральной практике.
С. Мельроуз в своих теоретических изысканиях опирается на режиссерскую практику Арианы Мнушкиной и Деборы Уорнер; Исаев к числу «последовательных постмодернистов» относит ту же Мнушкину и Патриса Шеро и заключает: «Но на то он и авангард, чтобы по самой своей сути быть искусством эзотерическим и элитарным. Его задача, как это прекрасно показал Эжен Ионеско, — проложить дорогу, по которой рано или поздно должны пройти остальные. Дорога же эта интересна не только ошибками и просчетами, неизбежными для первопроходцев, но и тем, что только с нее открывается вид на интеллигибельное пространство будущего» (32, с. II).
Симулякр; «совращение» как свойство всякого дискурса
Логика рассуждений Мелроуз в книге «Семиотика драматического текста» (1994) (237) во многом порождена современными представлениями о функционировании современного мира как мира «симулякров» — фантомов сознания, кажимостей — идея, наиболее авторитетно разработанная Жаном Бодрийаром. А. Гараджа пишет о концепции Бодрийара: «Современный мир состоит из моделей и симулякров, не обладающих никакими референтами, не основанных ни в какой «реальности», кроме их собственной, которая представляет собой мир самореферентных знаков. Симуляция, выдавая отсутствие за присутствие, одновременно смешивает всякое различие реального и воображаемого… Признавая симуляцию бессмысленной, Бодрийар в то же время утверждает, что в этой бессмыслице есть и «очарованная» форма: «соблазн», или «совращение». Совращение проходит три исторические фазы: ритуальную (церемония), эстетическую (совращение как стратегия соблазнителя) и политическую. Согласно Бодрийару, совращение присуще всякому дискурсу и всему миру» (15, с. 45).
Эти мысли о симулякрах и том эстетическом совращении (соблазне), которые они вызывают, и легли в основу рассуждений Мелроуз о роли современного театра: «Если то, к чему мы сейчас привыкли, это разграничение между более эффективными и менее эффективными симулякрами, то тогда роль театра уже не в том, чтобы эффективно воспроизводить («репрезентировать» по терминологии Мелроуз — И. И.) «реальность там вовне», но скорее жизненно-убедительную «реальность здесь внутри», чей статус реального и возникает как раз из вложенной в нее концентрированной и управляемой человеческой энергии. Эта энергия порождается условиями самого живого перформанса, и она все время как бы парит — то, что недоступно для находящегося под постоянным контролем редакторов и технического опосредованного телевидения, — на грани между своей силой, концентрирующей на себе пристальное внимание зрителей, и собственной хрупкостью. Именно эта комбинация контролируемой энергии, застигнутая в самый момент своего случайного появления, и делает театр столь опасно приятным для некоторых из нас. Он выявляет нечто вроде мгновенно возникающего ощущения веры даже не столько в художественный вымысел, сколько в человеческое мастерство и артистизм» (237, с. 75).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: