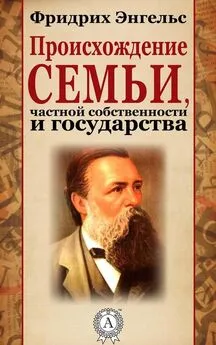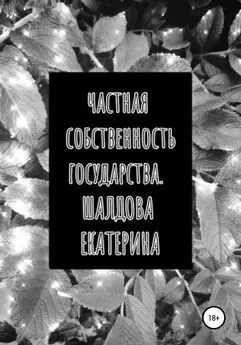Борис Чичерин - Собственность и государство
- Название:Собственность и государство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Русской Христианской гуманитарной академии
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Чичерин - Собственность и государство краткое содержание
Собственность и государство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во Франции более, нежели где-либо, получили силу римские понятия о равном разделе. Средневековой порядок наследования был совершенно устранен. Однако здесь, в отличие от Рима, господствующею формою является не завещание, а наследование по закону. Между тем как в Риме завещание было правилом, а законным наследникам предоставлялась только известная часть имущества, здесь, наоборот, наследование по закону составляет правило, а завещателю предоставляется только известная часть в его свободное распоряжение. Причина та, что в Риме отец семейства был носителем общественного сознания, проистекавшего из глубины народного духа, тогда как во Франции новые начала наследования водворились революционным путем, в борьбе с старым порядком, вследствие чего законодатель старался устранить личную волю и возможность, путем завещания, поддержать отмененные учреждения.
Большее значение сохранил средневековой порядок в Германии. Здесь не только удержались аристократические фидеикоммиссы, обращающие поземельную собственность в неприкосновенное достояние рода, но доселе еще можно найти остатки нераздельности и неотчуждаемости крестьянских участков. Только новейшее время внесло сюда начало свободы.
В еще более широких размерах удержался средневековой порядок наследования в Англии. Тут он не только успел сочетаться с свободою, но и нашел в ней главную свою опору. Право первородства составляет общий закон государства; но каждому дозволено свободно распорядиться своим имуществом по завещанию, если он не связан завещанием своего предшественника. Завещатель волен определить и будущий порядок наследования, однако не на вечные времена, как в фидеикоммиссах, а только в пределах живущих поколений, и до совершеннолетия имеющего родиться наследника. Таким образом, по истечении известного времени свобода возвращается завещателю. Но в силу господствующих нравов, самая эта свобода ведет постоянно к возобновлению того же порядка. Мы имеем здесь живой пример силы обычая, вытекающей из исторических условий и из свойств народного духа. Это и повело к тому, что свобода завещаний сделалась лозунгом защитников аристократической системы на европейском материке.
В Северной Америке та же свобода повела к совершенно иным явлениям. Здесь право первородства отменено; законом установлен равный раздел между наследниками. Но завещатель не связан ничем; он волен распоряжаться своим имуществом как ему угодно. Индивидуализм достигает здесь крайней своей степени.
У нас, в отличие от германцев, в древности завещание преобладало над наследованием по закону. В Русской Правде мы находим постановление, совершенно напоминающее закон XII таблиц: "Аже кто умирая розделит дом, на том же стояти". Точно так же и по Судебникам, наследование по закону наступает только в случае, если человек умер без духовной грамоты. Весьма вероятно, что этому значению завещания содействовала подсудность дел о наследстве духовенству, которое руководствовалось греко-римскими законами. Это видно из того, что рядом с этим родовое начало, которое обыкновенно влечет за собою наследование по закону, нисколько не утратило своего значения. Оно выражалось в праве выкупа родовых имуществ, которое встречается в памятниках XVI века и которое удержалось до настоящего времени. У нас доселе право завещания родовых имуществ не имеет силы в нисходящей линии и ограничено при наследовании боковых. По недостатку исторических известий, мы не можем сказать, каким образом в древнейшие времена родовое начало мирилось с свободою завещаний; но нет сомнения, что это начало не есть произведение позднейшего развития. Оно всегда и везде идет от глубокой древности. Служебное значение не только поместий, но и вотчин в Московском государстве могло его упрочить, но не оно вызвало его к жизни.
Как бы то ни было, результатом исторического движения человеческих обществ является сочетание обоих начал, соглашение, в той или другой форме, прав собственника с правами наследников. Там, где исстари преобладает завещание, впоследствии развивается наследование по закону, как ограничение личной воли; там же, где преобладает наследование по закону, оно восполняется завещанием.
Посмотрим теперь на философско-юридические основания обоих начал.
Наследственное право, как мы видели, составляет всемирное явление. Оно существует у всех народов. Отсюда уже можно заключить, что оно не установлено человеческим произволом, а вытекает из естественных законов, управляющих преемственностью поколений. Так именно на него смотрели римские юристы. "Естественный разум, - говорит Павел, - как некий молчаливый закон, присваивает детям наследство родителей, как бы призывая их к должному наследованию" [87]. И хотя римское законодательство при жизни отца не давало детям никакого права на отцовское имение, однако Павел в наследовании детей видит как бы вступление их в полноту собственного права. "В своих наследниках (то есть детях), - говорит он, - яснее видно, каким образом продолжение собственности приводит к тому, что кажется, будто бы вовсе не было наследства, но уже и прежде хозяевами были те, которые еще при жизни отца некоторым образом считались хозяевами... Таким образом, после смерти отца, они, по-видимому, не получают наследства, а скорее приобретают свободное управление своим имуществом" [88]. Несмотря на различие народных воззрений, мы видим здесь взгляд, приближающийся к германскому праву. До такой степени естественное начало брало верх, при той глубине понимания юридических отношений, каким бесспорно обладали римские юристы.
Между новыми писателями по философии права вопрос о происхождении наследства из естественного закона подвергся однако сомнению и спорам.
Отец философии права нового времени, Гуго Гроций, стоял еще за происхождение наследственного права из естественного закона, причем, согласно с субъективною исходною точкою новой философии, первенствующее значение получает у него завещание. Гроций выводит завещание из присущего собственности права отчуждения: как скоро установлена собственность, так отчуждение вытекает из нее по естественному закону. В отчуждении же заключается и завещание, которое, следовательно, прямо проистекает из естественного права. Ибо, говорит Гроций, я могу свою вещь отчуждать не только просто, но и под известным условием, и не только безвозвратно, но и с правом отмены, а также с сохранением временного владения и с полным правом пользования. Отчуждение же на случай смерти, с возможностью отмены до этого времени и с сохранением владения и пользования, есть именно завещание [89].
Что касается до наследования по закону, то, по теории Гроция, оно не что иное как молчаливое завещание на основании предполагаемой воли умершего. Ибо, если из права собственности вытекает право распоряжаться имуществом после смерти, то невероятно, чтобы человек, умерший без завещания, хотел оставить свое имущество первому, кто им овладеет. В этом случае надобно исследовать, какова была его вероятная воля; когда есть сомнение, всегда предполагается, что человек хотел то, что справедливо и честно. Отсюда передача имущества детям, даже помимо всякого гражданского установления, ибо предполагается, что родители хотели рожденным от них доставить не только необходимые средства пропитания, но и все, что способствует приятной и честной жизни, в возможно большем количестве, в особенности когда они сами уже не могут пользоваться своим имуществом. За недостатком же детей надобно исследовать естественный порядок благодеяний. На этом основано наследование родственников, по мере их близости к умершему (II, cap. 7, § 3, 5, 9).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: