О религии Льва Толстого
- Название:О религии Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Путь
- Год:1912
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
О религии Льва Толстого краткое содержание
О религии Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тайна нашей религиозной жизни не в одних мистических переживаниях, но еще и в том доверии к чужому религиозному опыту, в той любви к нему, которая связывает верующих в Церковь. Всякое религиозное сознание церковно по своей психологической природе (что видно и на примере самого Толстого, создавшего свое особое понятие о Церкви), — и индивидуальный религиозный опыт всегда должен быть восполняем Церковью. Каждый из нас может и должен свободно прийти к Богу, — своим путем, так как каждый из нас есть новое событие, новый факт в религиозной сфере; каждый из нас должен индивидуально апперцепировать всю полноту религиозной реальности, но эта индивидуальная апперцепция лишь там находит свое истинное осуществление, где она восполняется церковным религиозным опытом. И как странно, что Толстой, доводивший до крайности свое учение о подчинении личности общечеловеческому делу, ограничил его лишь этической областью, а в сфере религиозного познавания не преодолел индивидуализма и остался его рабом!…
Я хочу проанализировать постановку и решение проблемы бессмертия у Толстого. Кто знает религиозную систему Толстого, тот знает, какое место в религиозных его переживаниях занимает проблема смерти и бессмертия. Я хочу отделить у Толстого глубокое от поверхностного и надеюсь показать, что в церковном учении Толстой нашел бы завершение тех выводов, которые он извлек из своего мистического опыта.
————
Чтобы подойти к тому, как ставил и решал Толстой проблему бессмертия, мы должны отметить, что к религиозному миропониманию он пришел тогда, когда понял, что жизнь может иметь смысл лишь в том случае, если этот смысл не отрицается и не погашается смертью. Ярко рисует нам Толстой в своей «Исповеди» то мучительное состояние, когда он сбросил сладкий обман погруженности в себя, когда смерть и бессилие человека раскрыли перед его сознанием бездну, поглощающую всякую жизнь. Реальность видимого мира, реальность чувственных и жизненных радостей потускнели при свете смерти; нравственная деятельность потеряла всякий смысл, когда стала проблематичной реальная устойчивость того, что создает эта деятельность. Толстой мистически ощутил необходимость преодолеть смерть, почувствовал, что деятельность человека, лишенная связи с непреходящей реальностью, теряет свою ценность; лишь те цели могут отныне зажечь его волю, которые в своем осуществлении становятся выше смерти, выше времени.
Перспективы неуничтожаемой, не подчиненной смерти и времени жизни — вот чего жаждала душа Толстого. Основной вопрос, определивший все дальнейшее мистическое развитие Толстого, был таков: есть ли в человеке связь с бесконечным? И пока Толстой не пережил религиозного кризиса, пока он не почувствовал непререкаемую реальность Бога, этот вопрос лишь раздражал его, лишь мутил его душу. Вне религиозного миропонимания не могла быть ни поставлена, ни решена загадка о смысле жизни; веры в Бога, веры в то, что кроме чувственной и временной реальности, есть высшая, не подлежащая уничтожению реальность, требовала его душа. И Толстой нашел веру, пережил глубокий религиозный опыт, ощутил Бога, — и этот новый опыт дал ему возможность существовать. Новая жизнь, которая зародилась в нем от этой веры в Бога, состояла в том, чтобы найти связь с Богом, которая сообщила бы его жизни непреходящий смысл. И хотя Толстой на этом пути пошел за Христом, но и учение Спасителя и Его личность он понял по-своему, в свете тех религиозных переживаний, которые были ему доступны. Толстой не присоединился к Церкви в ее понимании жизни и учения Спасителя, но, по-своему поняв Евангелие, вступил даже в горячую и ожесточенную борьбу с «церковным христианством».
Проблема бессмертия в общехристианском исповедании всегда имела одно решение. Согласно определенным словам Спасителя, соответственно Евангельским фактам, вся Церковь христианская верует в бессмертие личности, в грядущее восстановление цельного человека, в воскресение плоти. Это дивное откровение, разрешающее все мучительные, тревожные запросы нашего чувства и ума, делает человека ответственным за его жизнь, придает смысл бытию его как личности, зовет его к церковному общению в любви и мире. В нем — наша главная надежда, в нем действительное спасение наше; оно неиссякаемый источник нравственных и религиозных переживаний…
Как же Толстой понимает это учение Спасителя? Вот что мы читаем в трактате «В чем моя вера»: «Никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве Мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключающее представление о личном воскресении». «Христос, читаем дальше, встретившись с верованием временного, местного и плотского воскресения, отрицает его и на место его ставит Свое учение о восстановлении вечной жизни в Боге [9] Последние слова очевидно нужно понимать в том смысле, что восстановленная в Боге жизнь будет вечной, а не в том, что вечная жизнь будет восстановлена, что было бы грубым противоречием.
». Он говорит: «Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное… соединяясь с Богом, достигшие восстановления из мертвых перестают быть личностями ». И дальше: «Христос учит спасению от жизни личной». Совершенно отрицая воскресение плоти (см. особенно резкие и грубые слова об этом в «Крит. догм. богосл.»), Толстой следующим образом разъясняет свое понимание учения Христа.
Христос, по толкованию Толстого, противополагает личной жизни не загробное существование, — а жизнь общую, связанную с жизнию всего человечества, «жизнь сына человеческого» [10] Понятие «сына человеческого» то сливается у Толстого со всем человечеством, в его прошлом, настоящем и будущем, то имеет смысл Платоновской идеи «человечества» вообще; в одних случаях оно мыслится как духовный организм, то просто, как «общее всем людям стремление к благу», то как разум, тождественный у всех людей. Ни точности, ни определенности это понятие не имеет, что объясняется его случайностью в религиозной системе Толстого, который пользовался этим понятием, когда было ему нужно.
. Кто исполняет заповеди Христа, жизнь того переносится в «сына человеческого» и таким образом становится вечной, не подлежащей смерти. По учению Христа, как его толкует Толстой, бессмертны не отдельные личности , а человечество , сознавшее себя «сыном Божиим», — оно восторжествует над всеми и будет восстановлено в Боге.
Дальше Толстой замечает: «Верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, свойственное всем диким народам… и вошедшее со стороны в церковное учение». «Может быть, учение о вечной личной жизни и справедливее, — замечает, противореча себе, Толстой, — но это представление, навеки закрепляющее личность, не соответствует учению Христа, учившего об отречении от личной жизни и перенесении ее в жизнь «сына человеческого». Наконец, вот строки, дающие ключ ко всему этому толкованию: «В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле Отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уже не могу усомниться . Но это так мало в сравнении с возвышенными религиозными верованиями в личную будущую жизнь! Хоть мало , но верно » [11] Изложение наше представляет или точное воспроизведение или самую близкую перефразировку слов Толстого из трактата «В чем моя вера», 3-е изд. «Посредник», стр. 105—118.
.
Интервал:
Закладка:
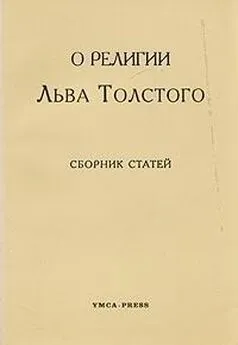


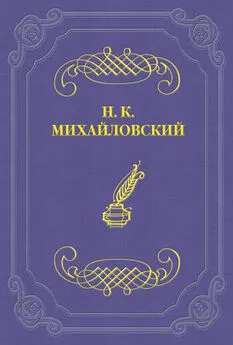

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

