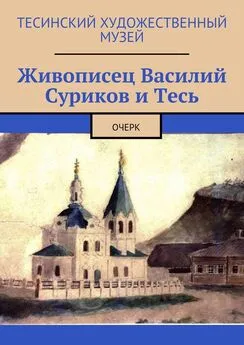Вадим Васильев - Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии.
- Название:Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-397-04182-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Васильев - Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии. краткое содержание
Сознание и вещи. Очерк феноменалистической онтологии. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можно развернуть редукционную цепь и получить картину выведения каузальной и экзистенциальной веры из принципа соответствия. Надо только помнить, что эта дедукция не является «чистой», что она содержит эмпирические включения. Каузальная вера ориентирует нас на отыскание локальных причин событий, а экзистенциальная вера предполагает существование предметов, не порождаемых восприятием. И то и другое ограничение априори необязательно, и они не значимы для всех релевантных возможных миров.
Однако это не мешает строгости проведенных выше рассуждений, которые во вводной части книги были названы феноменологическими дедукциями. Ведь подобные дедукции, как априорные ходы мысли, можно истолковать в качестве исследований возможных структур сознания.
Опыт всего лишь показывает нам, какая из априори исследованных возможностей нашла фактическую реализацию. Пример из геометрии позволит пояснить сказанное. Допустим, мы изучаем свойства прямоугольников. Мы можем изучать прямоугольники вообще, а можем ограничить наше исследование квадратами — одним из возможных видов прямоугольников. Изучение свойств квадратов не менее априорно, чем изучение свойств прямоугольников вообще. Но если мы не знаем, существуют ли в реальности квадраты (зная при этом о существовании каких-то прямоугольников), то нам априори неизвестно, будет ли анализ природы квадратов востребован в нашем мире. А узнать о существовании фигур, напоминающих квадраты, мы можем только из опыта. Приведенный пример аналогичен нашему априорному анализу онтологических установок. Исходя из принципа соответствия, можно дедуцировать, что при полной автономизации событийных рядов мы будем допускать существование локальных причин у всех локальных событий и, в случае нередуцированности данных нашего сознания к продуктам нашей деятельности, будем считать, что некоторые из них сохраняются после прекращения их восприятия. Но лишь опыт покажет нам, будем ли мы в действительности генерировать у себя подобные онтологические установки.
И в определенной степени он показывает это. Наши выводы обретают реальность. Но реальность в особом, феноменологическом смысле. Мы действительно верим, что каждое событие имеет причину, причем, скорее всего, локальную, что предметы не исчезают после прекращения восприятия и т. п., но мы не знаем этого.
Мы уже касались этой темы во введении к данной книге. И там мы договорились, что будем понимать под знанием уверенность, не оставляющую места сомнениям. Чтобы сомневаться в какой-то пропозиции, надо допускать возможность положения дел, противоположного тому, которое утверждается в ней. О его возможности можно говорить в случае отчетливой мыслимости последнего. Эта трактовка знания отличается от традиционного понимания знания как истинного обоснованного убеждения, но традиционное понимание в любом случае было разрушено контрпримерами Гетьера в 60-е гг. XX в. [22] Gettier E. Is justified true belief knowledge? // Analysis. 1963. №23. P. 121-123.
Кажется, правда, что наша трактовка [23] О других возможных реакциях на контрпримеры Гетьера см.: Williamson Т. Knowledge and Its Limits. Oxford, 2000.
расходится с обыденным словоупотреблением. Я могу сказать, к примеру, что знаю, что Эверест — самая высокая гора на Земле, хотя, строго говоря, в этом утверждении можно усомниться: можно, скажем, представить, что Эверест был разрушен десять минут назад. Однако такие случаи, возможно, говорят лишь о том, что, рассуждая о знании, люди впадают в гиперболизацию. Это можно проверить, спросив человека, утверждающего нечто подобное, действительно ли он знает то, о чем он говорит, или лишь судит об этом с очень высокой степенью вероятности. Большинство, скорее всего, ответит, что верен второй вариант [24] Для усиления этого вывода потребовались бы дополнительные исследования в духе «экспериментальной философии». И реальные исследования такого рода по крайней мере дают основание считать его верным (см.: Weinberg J. М., Nichols S., Stich S. R Normativity and epistemic intuitions // Knobe J., Nichols S. (eds.) Experimental Philosophy. Oxford, 2008. P. 32). Это замечание, впрочем, не означает, что и в других вопросах, обсуждаемых в этой книге, нам могла бы потребоваться помощь экспериментальной философии. И тем более оно не означает, что эти вопросы могли бы решаться только экспериментальной философией. Сами основатели экспериментальной философии признают, что их методы имеют лишь вспомогательное значение и что они могут применяться далеко не ко всем философским вопросам (см.: КпоЪе </., Nichols S. An experimental philosophy manifesto // Knobe J., Nichols S. (eds.) Experimental Philosophy. P.3-14).
. Значит, трактовка знания как несомненного убеждения [25] Cp.: McGinn C. Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy. N.Y., 2012. P. 42-44.Макгинн предлагает трактовать знание как истинное убеждение, истинность которого не является результатом счастливой случайности. Предложенное мной определение можно рассматривать как вариацию этой теории.
не расходится с обыденным словоупотреблением и может быть использована для наших целей.
Таким образом, все наши онтологические конструкции, развернутые на предыдущих страницах, не имеют статуса знаний, не являются несомненными истинами и не могут быть истолкованы как описание сущего как такового. На самом деле мы не знаем, соответствует ли будущее прошлому, есть ли у каждого события причина и существуют ли вещи сами по себе. И мы не можем знать этого. Поэтому строгая онтология в этом смысле невозможна.
И мы уже видели, что если строгая реальная онтология вообще возможна, то она должна принимать вид феноменалистической онтологии. Здесь мы говорим не о том, какова реальность сама по себе, а о том, какие убеждения возникают о ней сообразно устройству наших когнитивных способностей. Разумеется, не исключено, что наши когнитивные механизмы встроены в мир эволюцией и отражают его объективное устройство. Но это допущение полезно лишь в плане нейтрализации альтернативных объяснений того, почему наши, по сути, априорные способности являются довольно эффективным средством разрешения жизненных проблем и соответствуют ходу природы. Среди этих альтернативных объяснений выделяется теория предустановленной гармонии, к которой для ответа на подобный вопрос прибегал даже Юм [26] Hume D. Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals. P. 54.
, и «коперниканская» позиция Канта, утверждавшего, что законы природы в буквальном смысле проистекают из самого человеческого рассудка.
Обе эти альтернативы представляются менее убедительными, чем эволюционистское объяснение соответствия онтологических установок и мира. Но оно, конечно, не дает никакой гарантии точности этого соответствия.
Такую гарантию обещает дать кантовский подход, но, как уже было отмечено, кантоведы четко показали [27] См., напр.: Guyer P Kant and the Claims of Knowledge. N. Y., 1987. P. 118; Thole B. Kant und das Problem der Gesetzmassigkeit der Natur. N. Y., 1991. S. 261. См. также: Васильев В. В. Подвалы кантовской метафизики. М., 1998. Гл. 4 (1).
, что трансцендентальная дедукция категорий «Критики чистого разума», в которой как раз и демонстрируется необходимая связь законов нашего рассудка и мира опыта, не достигает своей цели.
Интервал:
Закладка:

![Вадим Гигин - Оклеветанный, но не забытый[очерк о М.Н. Муравьеве-Виленском]](/books/435563/vadim-gigin-oklevetannyy-no-ne-zabytyy-ocherk-o-m-n-muraveve-vilenskom.webp)


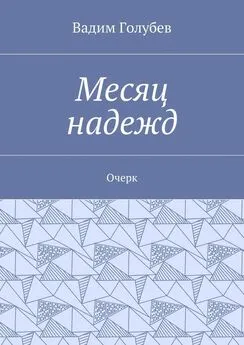
![Борис Кудрявцев - Первоначала вещей [Очерк о строении вещества]](/books/1065461/boris-kudryavcev-pervonachala-vechej-ocherk-o-stroeni.webp)