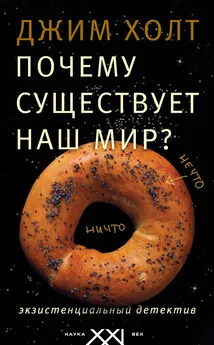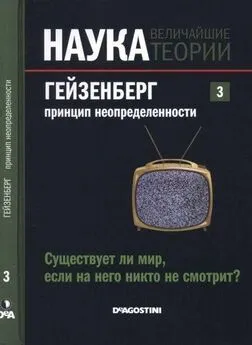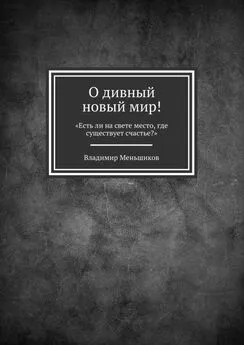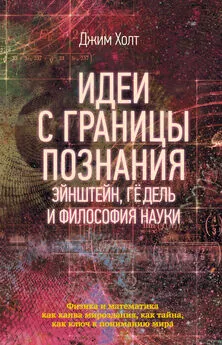Джим Холт - Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив
- Название:Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2016
- Город:М
- ISBN:978-5-17-085989-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джим Холт - Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив краткое содержание
Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почему перспектива собственного уничтожения должна волновать меня, если она не волновала Сократа или Юма? Я уже сказал, что не могу вообразить свою смерть. От этого она кажется загадочной и потому пугающей. Однако я не могу вообразить себя в полностью бессознательном состоянии, хотя вхожу в него каждую ночь и оно меня не пугает.
Ужас смерти не в перспективе бесконечного небытия, а в перспективе потери всех благ жизни, причем навсегда. «Чтобы понять, почему смерть считается плохой, – писал Томас Нагель, – нужно принять, что жизнь – это хорошо, а смерть, соответственно, является потерей или лишением» 185. И если вы не испытываете ощущения потери после того, как перестали быть, это вовсе не делает эту потерю незначительной для вас. Допустим, говорит Нагель, что умный человек после повреждения мозга оказался в состоянии довольного жизнью младенца. Это, безусловно, огромная беда для этого человека, даже если он не воспринимает ее таким образом. Так разве не верно то же самое в случае смерти, где потеря еще более тяжелая?
А что, если в вашей жизни нет ничего хорошего? Что, если она состоит из нескончаемой агонии или невыносимой скуки? Не лучше ли небытие? У меня этот вопрос вызывает противоречивые чувства, однако рассуждения покойного британского философа Ричарда Уоллхайма, утверждавшего, что смерть есть несчастье, даже если жизнь целиком лишена удовольствий, впечатляют: «Дело не в том, что смерть лишает нас определенного вида удовольствия или удовольствия вообще. Она лишает нас чего-то более фундаментального, чем удовольствие, – чего-то такого, к чему мы получаем доступ, когда входим в свое нынешное состояние… Смерть лишает нас ощущения мира, а испытав это ощущение однажды, мы входим во вкус и не можем от него отказаться, даже если усиливается желание прекратить боль, перестать существовать» 186.
Еще больше меня впечатлило признание Мигеля де Унамуно в его книге «О трагическом чувстве жизни у людей и народов»:
«И в самом деле, я должен признаваться, как ни тяжело в этом признаться, что никогда, во времена простодушной веры моего детства, меня не пугали описания мук ада, какими бы жестокими они ни были, и я всегда чувствовал, что небытие гораздо страшнее ада. Кто страдает, но все же живет, и живет страдая, тот любит и надеется, даже несмотря на то, что на дверях его тюрьмы начертано: „Оставь надежду, всяк сюда входящий“!», и лучше жить страдая, чем почить с миром. В сущности, дело в том, что я не мог верить в эту жестокость ада, жестокость вечного наказания, и не видеть того, что истинный ад – в небытии и в перспективе небытия» [23] Пер. Е. В. Гараджа.
.
Ужас смерти выходит за рамки мысли о том, что суета жизни продолжится без нас, ведь даже солипсист, считающий, что от него зависит существование мира, боится смерти. И мой собственный страх смерти не станет меньше, если я буду думать, что умру в результате некоего общего катаклизма, который сотрет все живое с лица Земли или вообще уничтожит весь космос. Напротив, такая мысль лишь усилит мой страх смерти.
Нет, именно перспектива небытия вызывает у меня тошноту, а то и, подобно Унамуно, настоящий ужас. Как представить себе это небытие? С объективной точки зрения моя смерть, как и мое появление на свет, является заурядным биологическим событием, которое происходило миллиарды раз с представителями моего вида. Однако изнутри невозможно себе представить, что исчезнет мир в моем сознании, исчезнет все содержимое моего сознания, наступит конец субъективного времени. Это моя «самособственная смерть», как выразился американский философ Марк Джонстон, это затухание пламени моего «я», «конец места бытия и действия». Джонстон считает, что перспектива «самособственной смерти» ставит в тупик и приводит в ужас, потому что показывает, что мы, вопреки своим представлениям, не являемся ни центром мира, ни источником реальности, в которой обитаем 187.
Нагель придерживается сходной точки зрения. Изнутри, пишет он, «мое существование представляется вселенной возможностей, которая стоит сама по себе, то есть не нуждается ни в чем для продолжения существования. И потому неизбежен жестокий шок, когда это частично неосознанное представление о себе сталкивается с грубым фактом того, что Томас Нагель умрет и я умру вместе с ним. Это исключительно сильная форма небытия… Оказывается, что я не такой, каким мне хотелось себя представлять: не набор ни на чем не основанных возможностей, а набор возможностей, ограниченных условиями реальности» 188.
Не все философы рассматривают неизбежное возвращение в небытие в столь мрачном свете. Дерек Парфит, например, рассуждает о хрупкости «я», освободившей его от веры в то, что он либо существует, либо не существует: смерть всего лишь разорвет некоторые психологические и физические связи, оставив в целости остальные. «Вот и все, к чему сводится тот факт, что меня не будет среди живых, – пишет Парфит. – Теперь, когда я это увидел, моя смерть не кажется мне столь ужасной» 189.
«Не кажется столь ужасной» – ну что же, это уже лучше. А нельзя ли сказать что-то хорошее про небытие? Как насчет идеи нирваны, задувания пламени личности, прекращения желаний? Может ли личное исчезновение, даруемое нам смертью, быть состоянием вечного покоя, как утверждает буддийская философия? Но как можно наслаждаться чем-то, если ты не существуешь? Отсюда и шутливое определение нирваны как «быть живым ровно настолько, чтобы наслаждаться смертью».
Под влиянием буддизма Шопенгауэр провозгласил, что все стремления есть страдание, поэтому конечной целью личности должно быть уничтожение – возвращение в бессознательную вечность, из которой она когда-то появилась: «Пробужденная к жизни из тьмы беспамятства, воля обнаруживает, что является индивидуумом в бесконечном и безграничном мире, среди бесчисленного множества других индивидов, которые стремятся к чему-то, страдают и ошибаются; и, словно сквозь кошмарный сон, она торопится обратно, в старое беспамятство» 190.
Квазибуддийский взгляд Шопенгауэра на жизнь может показаться необоснованно скептическим, однако идея уничтожения как возвращения в потерянное состояние покоя способна вызвать мощный эмоциональный резонанс, уходящий корнями в наше детство. Мы воплощаемся в утробе, в теплом море бессознательного, а затем обнаруживаем себя у материнской груди, в состоянии полного удовлетворения желаний. Наше самосознание постепенно появляется в атмосфере абсолютной зависимости от наших родителей, причем у нашего вида эта зависимость длится гораздо дольше, чем у любого другого. В подростковом возрасте мы должны избавиться от этой зависимости, взбунтовавшись против родителей, отказавшись от домашнего комфорта и отправившись в большой мир самостоятельно. Там мы соревнуемся, чтобы оставить потомство, и таким образом цикл начинается сначала. Однако мир – это опасное место, полное незнакомцев, и наш бунт против родителей вызывает чувство отчуждения, чувство разрыва первородной связи. Только возвратившись домой, можем мы искупить вину существования, достичь примирения и восстановить единство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: