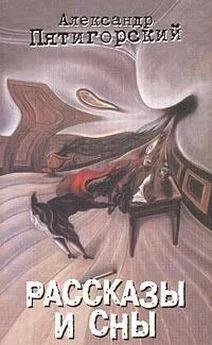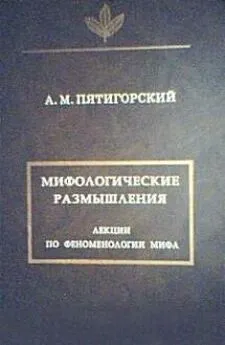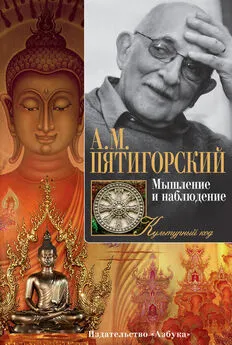Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение
- Название:Мышление и наблюдение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Liepnieks & Ritups
- Год:2002
- Город:Рига
- ISBN:9984-9609-0-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пятигорский - Мышление и наблюдение краткое содержание
Мышление и наблюдение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, обсервационная философия ни в какой степени не является теорией мышления и не может претендовать на роль такой теории. Сам факт настоящих рассуждений ясно показывает, что в отношении возможной теории мышления обсервационная философия выполняет функцию метатеории, которая по необходимости будет в себя включать и прагматику подхода к исследованию мышления и к рассмотрению теоретических предпосылок такого исследования. Поэтому, вкратце остановлюсь на понятии ситуации мышления о мышлении, как фокусе такой прагматики. В ситуации мышления о мышлении первое мышление, то есть то, которое «мыслит» о втором — здесь шире, чем рефлексия, поскольку может включать последнюю в качестве частного случая мышления вообще. Тогда «мышление вообще» я могу рассматривать как одно из содержаний или одну из структур сознания в том смысле, в каком о них говорилось в первой и второй лекциях и одновременно как одну из возможных позиций наблюдения данной ситуации как ситуации мышления о мышлении. Таким образом, вводя понятие «ситуации мышления о мышлении», мы оказываемся, с одной стороны, внутри области «чистого содержания», так сказать, а с другой — в сфере чистой (то есть опять же не обязательно отрефлексированной) прагматики, на уровне которой ситуация мышления о мышлении может условно приписываться мыслящему о мышлении, а последний может приобретать такие неспецифические для объекта наблюдения параметры, как антропичность, индивидуальность и личностность.
Тогда и станет возможным разговор о времени такой ситуации — не только о времени ее протекания, но и о том внешнем ей времени, в котором она наблюдается «наблюдателем мышления» как мыслительное событие (mental event) или мыслительное действие (mental action). Теперь, в связи с введением содержательного понятия ситуации мышления о мышлении — еще одно замечание чисто прагматического характера.
Средний мыслящий человек не склонен к думанию о мышлении как мышлении, то есть к думанию вне целевых, мотивационных и ситуативных аспектов мышления. Это отсутствие склонности к думанию о мышлении проявляется у среднего мыслящего человека в широком диапазоне — от интеллектуальной незаинтересованности до активной неприязни к теме мышления. Не замечательно ли, что после Декарта и философов-эмпириков (за несколькими редчайшими исключениями) мышление интересовало философов только в виде его конечных результатов, то есть в виде «готовых» понятий, категорий, концептов, конструктов, но не как особый, sui generis феномен со своими собственными феноменальными характеристиками. Оттого почти во всех философских и естественно-научных попытках теоретического осмысления мышления оно неизменно оказывалось дополнением, добавлением к чему-то еще, только вместе с чем или на основе изучения чего оно и осмысливалось. Что же тогда говорить о среднем мыслящем человеке с его «нормальной» неприязнью к думанию о мышлении!
Однако, наблюдая ситуации мышления о мышлении, я склоняюсь к предположению, что тенденция к избеганию этих ситуаций средними мыслящими людьми может найти объяснение в каких-то особенностях их мышления, именно мышления, а не психики. В этой связи я бы рискнул предположить, что мышлению среднего мыслящего человека трудно мыслить о себе как о том, что не редуцируется к «мыслящему» и к «человеческому». Такому мышлению гораздо легче думать о себе в порядке любых других редукций — чисто психических, психофизиологических, биофизических, социокультурных, исторических, лингвистических, каких угодно еще, но не в порядке мышления о мышлении в его нередуцируемой мыслителъности. Может быть, если наблюдать это явление только со стороны психики, в нем можно увидеть страх мышления себя «расчеловечитъ», страх «отчуждения» от себя как человеческого и индивидуального мышления, так же как и страх отделения мышлением себя от «мыслящего» как человека и индивида. Но если наблюдать это явление со стороны мышления, то ситуация мышления о мышлении может быть понята как особый случай рефлексивного мышления, предполагающий особую интенциональность (а, возможно, и особую энергетику) осознания мышления в его процессуальности и вне его содержательности. В ситуации мышления о мышлении мы покидаем «почву спонтанного», так же как и «высоты логического» (может быть, ближайшей аналогией этой ситуации будет ситуация «памяти о памяти»). Идее такой ситуации оказываются равно чужды как классический психоанализ, так и давно ставший «классическим» логический анализ языка.
Ситуация мышления о мышлении — не теоретический концепт, а «практическая вероятность», если позволить себе такую вольность в обращении со словом «вероятность». Эту ситуацию можно себе представить как своего рода «стереоскопический срез осознаваемой длительности мышления». Тогда о ней можно будет думать как о вероятности осознания себя мышлением как такого «среза». И, наконец, — по аналогии с тем, что уже говорилось о мышлении как об эпифеномене рефлексии, — любая ситуация, о которой предполагается, что там «есть» («было»?, «будет»? ) мышление, мыслима только через ситуацию мышления о мышлении. Тогда, с точки зрения обсервационной философии «ситуация мышления вообще» оказывается пустой абстракцией, поскольку в принципе любая ситуация может наблюдаться как мышление, но только ситуации мышления о мышлении маркированы в отношении мышления, являются ситуациями мышления по преимуществу, так сказать. На уровне прагматики мышления категория «ситуации» нейтрализует условное противопоставление «мышления как действия» «мышлению как событию», о котором говорилось выше. И, наконец, «ситуация мышления о мышлении» может в возможной теории мышления служить термином описания мышления в наиболее сложных конкретных направлениях последнего.
Для Декарта — первого и пока единственного европейского философа мышления — мышление являлось чем-то непосредственно и абсолютно данным, тем, что всегда «уже дано» в знании, тем, что ни вводится в порядке первичного постулата, ни выводится из какого-либо первичного постулата. Метод Декарта — это метод знания. Его медитации — это созерцания познающего. Даже его «радикальное сомнение» — о правильности рассуждения, пусть даже мышления, но никак не «сомнение в мышлении» (абсурд!). Британские эмпирики, Кант и феноменологи подходили к мышлению с разных сторон, но как понятие оно оставалось столь же непроницаемым для философии, сколь непроницаемым оно оставалось как феномен для позитивного научного знания.
Именно эта непроницаемость мышления склоняет философствующего о нем к «обходу» (по далекой аналогии с гуссерлевским эпохэ и по гораздо более близкой — с зильбермановским «мячиком, потерянным в темной комнате») мышления как объекта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: