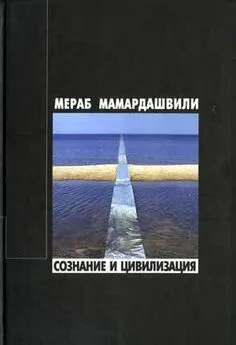Мераб Мамардашвили - Сознание и цивилизация
- Название:Сознание и цивилизация
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-8163-0064-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мераб Мамардашвили - Сознание и цивилизация краткое содержание
Сознание и цивилизация - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Существует известная теория Макса Вебера, который само появление феномена капитализма связывал с тем, что он называл "протестантской этикой". Он считал, что для развития капитализма нужно было, чтобы акт, например, торговли, т. е. частного дела, стал носителем каких-то очень высоких ценностей. В том числе взаимоотношения с Богом, ответственности и т. д. Когда это случается, появляется, по его мнению, класс капиталистов, предпринимателей, купцов. То есть появляются и такие слова, как "бюргер", "частный человек" и т. д. В русском языке есть аналог этому — "мещанин". Именно в этом смысле его использовал в своем знаменитом стихотворении Пушкин. Но для нас слова "бюргер", "буржуа", "мещанин" и т. д. давно стали символом пошлости, обывательщины и пр.
Повторяю, я не считаю веберовскую теорию верной в отношении анализа причин возникновения капитализма. У меня к ней есть свои претензии. Но ход его мысли в данном случае весьма показателен и многое говорит именно о действительном характере европейской христианской культуры. Если же мы обратимся теперь к России начала XX века, то увидим, что сознание ее людей отнюдь не было глубоко затронуто Евангелием. Еще Розанов в свое время отмечал распространение в стране на волне первой революции "живых Христов" и "живых Богородиц", что совершенно невозможно ни в каком грамотном религиозном сознании. Тут всем движут другие силы. "Говоря о России, — писал Чаадаев, — постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола". Иными словами, Чаадаев как мыслитель, я думаю, тоже бы считал, если участвовал в современных дискуссиях, что никакого сталинизма не существовало, что это выдумка, посредством которой невозможно помыслить то, что мы называем этим словом. На самом деле Сталин — это продукт миллионов "самовластий", вернее, их сфокусированное отражение. Об этом, кстати, он и сам говорил, признаваясь, что партия создала его по своему образу и подобию. Миллионы "Сталиных" — это социальная реальность, в которой живет масса властителей. Это и есть то, что Чаадаев назвал "олицетворением произвола". Мы сейчас пытаемся вычленить из того времени что-то вроде интеллектуальной, партийной и даже духовной "оппозиции". Но в действительности ее не было. Да и быть не могло. Просто тот же Бухарин немножко детонировал с тем образом, который миллионы "самовластии" относили к себе. Адекватным их сознанию оказался Сталин. Поэтому он и стал тем, кем стал.
Но эта история еще не закончилась. Мы так и не научились пока извлекать смысл из пережитого. Иначе бы не говорили о культе Брежнева, которого в действительности тоже не существовало. Был "культ Брежнева", через который исполнялся ритуальный танец и определенная группа лиц занималась собственным восхвалением. Через него они говорили о себе, о своем авторитете, о своей силе и т. д.
Закончить эти размышления мне хотелось бы по-прежнему актуальной для нас мыслью Чаадаева, которой он завершает приведенное выше рассуждение о том, что Россия не является просто государством в ряду других государств. "В противоположность всем законам человеческого общежития, — пишет Чаадаев, — Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути".
Когда-то эта задача уже начала решаться, но мы отклонились в сторону и одичали. Теперь, если мы хотим действительно спасать или участвовать в спасении цивилизации на Земле, если мы хотим вернуться в свой европейский дом и иметь право говорить о нем в роли защитников, нам нужно самим стать сначала цивилизованными — более цивилизованными или просто цивилизованными людьми, т. е. перейти на другие, новые пути.
О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ [1989?]
Я хочу подчеркнуть, что этот доклад только о понятии гражданского общества и рассуждение будет довольно абстрактным. И конкретные реалии будут узнаваться только в той мере, в какой они будут приложением тех следствий, которые можно получить из абстрактных принципов.
В качестве эпиграфа к моему рассуждению можно взять следующее: "… и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех". Это Евангелие от Матфея. [2] Ср. Мф 24:39. " Курсив наш — ред. наст. изд.
Кроме образа и последствий недумания, которые рисуются в этом евангелическом тексте, нам нужно зацепиться за слово "думали". Ясно, что когда мы ставим вопросы о социальной или политической теории, то думание, или мышление, в этом случае имеется в виду в двух срезах, в двух смыслах. Во-первых, мышление, или думание, в смысле самой бытологической или социально-исторической теории, т. е. тот аппарат, то содержание, которые специально разрабатываются профессионалами, разрабатываются в академических институциях. А второй срез, в котором слово "думание" здесь фигурирует, — это срез, несомненно, того, что думание (как, какую бы судьбу оно ни получило в руках тех, кто сами живут в обществе, но при этом являются профессионалами социологии или социально-исторической теории) есть одновременно элемент жизни, или жизнедеятельности, элемент головы, ментального, психического состава самих субъектов социально-исторической жизни, тех людей, которые просто живут свою собственную жизнь. Она складывается и протекает по каким-то неизвестным им (а иногда известным) законам и связям, но думание в этом случае есть элемент того, как складываются эти связи, как складывается сама фигура, конфигурация исторического процесса и какую сложную кривую описывает в некотором социальном пространстве события.
Тогда первое, что напрашивается, это, конечно (раз уж думание фигурирует сразу, одновременно в двух таких ипостасях), различить уже в самом понятии думания две вещи: это различить думание, или ум, или мысль, с одной стороны, и мышление, с другой стороны. И я фактически буду говорить не о мышлении и не о социально-историческом его варианте, а буду говорить о мысли, или о думании, т. е. имея в виду, прежде всего, сознающую мысль, отличая ее от специального мышления. Мысль, очевидно, составляет эфир специального мышления, и поэтому можно говорить о том, в какой мере мышление осуществляется в эфире мысли или не осуществляется в нем. Можно совершить процесс мышления и не иметь ни одной мысли, не породить ни одной мысли, и, наоборот, можно находиться в состоянии мыслящего сознания, в том числе мыслящего чувства (здесь у меня различения не будут проводиться между мыслью и чувством), и не осуществить никакого специального профессионального процесса мышления, который обычно описывается логически. Тем самым я хочу сказать и предупредить о том, что я буду говорить о понятии гражданского общества и других понятиях в социальной теории в той мере, в какой я могу увидеть последствия определенной метафизики мысли и свободы. Меня будет интересовать то, что вытекает из этой метафизики мысли и свободы на уровне тех понятий, посредством которых мы осмысляем сами последствия свободы, а последствиями свободы являются история и общество. И [я] буду вести свое рассуждение по аналогии с тем, что вообще, скажем, из той метафизики вытекает, например, для мысли, для мыслящего сознания, как я определил, а не специального мышления. Вот, например, есть одно метафизическое следствие для мысли (то есть следствие того, если мы метафизически посмотрим на мысль и свободу), это такой постулат: кто-то должен мыслить, действительно мыслить, чтобы был предмет. Здесь ударение падает на слова "действительно мыслить". Это ударение можно понять, если различить уже в другом плане: то же самое различение произвести между мыслью и мышлением, которое я проводил, но несколько в другом свете его взять.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: