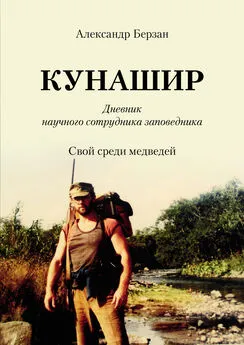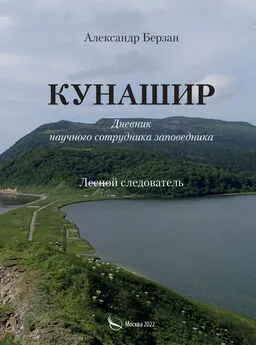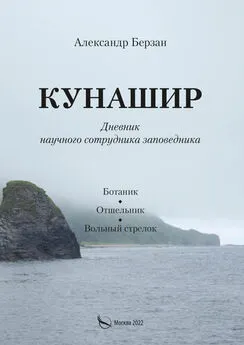Томас Кун - Структура научных революций
- Название:Структура научных революций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Кун - Структура научных революций краткое содержание
Структура научных революций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
VIII
РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС
Допустим теперь, что кризисы являются необходимой предпосылкой возникновения новых теорий, и посмотрим затем, как учёные реагируют на их существование. Частичный ответ, столь же очевидный, сколь и важный, можно получить, рассмотрев сначала то, чего учёные никогда не делают, сталкиваясь даже с сильными и продолжительными аномалиями. Хотя они могут с этого момента постепенно терять доверие к прежним теориям и затем задумываться об альтернативах для выхода из кризиса, тем не менее они никогда не отказываются легко от парадигмы, которая ввергла их в кризис. Иными словами, они не рассматривают аномалии как контрпримеры, хотя в словаре философии науки они являются именно таковыми. Частично это наше обобщение представляет собой просто констатацию исторического факта, основывающуюся на примерах, подобных приведённым выше и более пространных, изложенных ниже. В какой-то мере это даёт представление о том, что наше дальнейшее исследование отказа от парадигмы раскроет более полно: достигнув однажды статуса парадигмы, научная теория объявляется недействительной только в том случае, если альтернативный вариант пригоден к тому, чтобы занять её место. Нет ещё ни одного процесса, раскрытого изучением истории научного развития, который в целом напоминал бы методологический стереотип опровержения теории посредством её прямого сопоставления с природой. Это утверждение не означает, что учёные не отказываются от научных теорий или что опыт и эксперимент не важны для такого процесса опровержения. Но это означает (в конечном счёте данный момент будет центральным звеном), что вынесение приговора, которое приводит учёного к отказу от ранее принятой теории, всегда основывается на чём-то большем, нежели сопоставление теории с окружающим нас миром. Решение отказаться от парадигмы всегда одновременно есть решение принять другую парадигму, а приговор, приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих парадигм с природой, так и сравнение парадигм друг с другом.
Кроме того, есть вторая причина усомниться в том, что учёный отказывается от парадигм вследствие столкновения с аномалиями или контрпримерами. Развитие этого моего аргумента предвосхищает здесь другой тезис, один из основных для данной работы. Причины для сомнений, упомянутые выше, являются чисто фактуальными, то есть они сами по себе были контрпримерами по отношению к широко распространённой эпистемологической теории. Сами по себе эти контрпримеры, если точка зрения правильна, могут в лучшем случае помочь возникновению кризиса или, более точно, усилить кризис, который уже давно наметился. В чистом виде они не могут опровергнуть эту философскую теорию, ибо её защитники будут делать то, что мы уже видели в деятельности учёных, когда они боролись с аномалией. Они будут изобретать бесчисленные интерпретации и модификации их теорий ad hoc, для того чтобы элиминировать явное противоречие. Многие из соответствующих модификаций и оговорок фактически уже встречаются в литературе. Поэтому, если эпистемологические контрпримеры должны стать чем-то бóльшим, нежели слабым добавочным стимулом, то это может произойти потому, что они помогают и благоприятствуют возникновению нового и совершенно иного анализа науки, в рамках которого они не внушают больше повода для беспокойства. Кроме того, если типичная модель, которую мы позднее будем наблюдать в научной революции, применима здесь, то эти аномалии больше не будут уже казаться простыми фактами. С точки зрения новой теории научного познания они, наоборот, могут казаться очень похожими на тавтологии, на утверждения о ситуациях, которые невозможно мыслить иначе.
Например, часто можно было наблюдать, как второй закон движения Ньютона, хотя потребовались века упорных фактуальных и теоретических исследований, чтобы сформулировать его, выступает для тех, кто использует теорию Ньютона, в основном, чисто логическим утверждением, которое никакие наблюдения не могут опровергнуть [83] См., в частности: N.R.Hanson. Patterns of Discovery. Cambridge, 1958, p. 99—105.
. B X разделе мы увидим, что химический закон кратных отношений, который до Дальтона на экспериментальном уровне имел случайное и сомнительное подтверждение, сделался после работы Дальтона составной частью определения химического состава, которое ни одна экспериментальная работа сама по себе не может опровергнуть. Нечто весьма похожее произойдёт и с обобщением, что учёным не удаётся отбросить парадигмы, когда они сталкиваются с аномалиями или контрпримерами. Они не смогли бы поступить таким образом и тем не менее остаться учёными.
Некоторые учёные, хотя история едва ли сохранит их имена, без сомнения, были вынуждены покинуть науку, потому что не могли справиться с кризисом. Подобно художникам, учёные-творцы должны иногда быть способны пережить трудные времена в мире, который приходит в расстройство, — в другом месте я описал эту необходимость как «необходимое напряжение», включённое в научное исследование [84] T. S. Kuhn. The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research, in: «The Third (1959) University of Utah Research Conference on the Identification of Creative Scientific Talent», ed. Calvin W. Taylor (Salt Lake City, 1959), p. 162—177. Для сравнения о подобном явлении в искусстве см.: F.Barron. The Psychology of Imagination. — «Scientific American», CXCIX, September 1958, p. 151—166, esp. 160.
. Но такой отказ от науки в пользу другой профессии, я думаю, является единственной формой отказа от парадигмы, к которому могут привести контрпримеры сами по себе. Как только исходная парадигма, служившая средством рассмотрения природы, найдена, ни одно исследование уже невозможно в отсутствие парадигмы, и отказ от какой-либо парадигмы без одновременной замены её другой означает отказ от науки вообще. Но этот акт отражается не на парадигме, а на учёном. Своими коллегами он неизбежно будет осуждён как «плохой плотник, который в своих неудачах винит инструменты».
Ту же самую точку зрения можно сформулировать по меньшей мере столь же эффективно и в противоположном варианте: не существует ни одного исследования без рассмотрения контрпримеров. В самом деле, что отличает нормальную науку от науки в состоянии кризиса? Конечно, не то, что нормальная наука не сталкивается с контрпримерами. Напротив, то, что мы ранее назвали головоломками, решения которых и определяли нормальную науку, существует только потому, что ни одна парадигма, обеспечивающая базис научного исследования, полностью никогда не разрешает все его проблемы. Очень немногие парадигмы, относительно которых это как будто бы имело место (например, геометрическая оптика), вскоре прекращали порождать исследовательские проблемы вообще и вместо этого становились средствами инженерных дисциплин. Исключая проблемы, которые являются чисто инструментальными, каждая проблема, которую нормальная наука считает головоломкой, может быть рассмотрена с другой точки зрения как контрпример и, таким образом, быть источником кризиса. Коперник рассматривал как контрпримеры то, что последователи Птолемея в большинстве своём считали головоломками, требующими установления соответствия между теорией и наблюдением. Лавуазье считал контрпримером то, что Пристли находил успешно решённой головоломкой в разработке теории флогистона. А. Эйнштейн рассматривал как контрпримеры то, что Лоренц, Фицджеральд и другие оценивали как головоломки в разработке теорий Максвелла и Ньютона. Кроме того, даже наличие кризиса само по себе не преобразует головоломку в контрпример. Между ними не существует такого резко выраженного водораздела. Вместо этого за счёт быстрого увеличения вариантов парадигмы кризис ослабляет правила нормального решения головоломок таким образом, что в конечном счёте даёт возможность возникнуть новой парадигме. Я думаю, есть только две альтернативы: либо ни одна научная теория никогда не сталкивается с контрпримерами, либо все подобного рода теории всегда наталкиваются на контрпримеры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: