Сью Придо - Жизнь Фридриха Ницше [litres]
- Название:Жизнь Фридриха Ницше [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18248-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сью Придо - Жизнь Фридриха Ницше [litres] краткое содержание
Ницше писал, что философия сама по себе автобиографична, и в яркой, убедительной, разрушающей мифы биографии, созданной признанным мастером жанра Сью Придо, открывается мир этого блестящего, эксцентричного мыслителя и отягощенного множеством проблем человека. Внимание акцентируется на событиях и людях, которые повлияли на жизнь и творчество великого философа (Рихард и Козима Вагнер, Лу Саломе – роковая женщина, разбившая ему сердце, сестра Элизабет). Благочестивое христианское воспитание, глубокие переживания, связанные с загадочной смертью отца, преподавательская деятельность, одинокое времяпрепровождение высоко в горах и печальное погружение в безумие – рассматривая ключевые этапы биографии Ницше и анализируя его важнейшие произведения, автор ярко воссоздает интеллектуальный и эмоциональный аспекты жизни философа.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Жизнь Фридриха Ницше [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чтобы понять причины смерти греческой трагедии, нужно вспомнить максимы Сократа: добродетель есть знание, все грехи идут от невежества, счастливый человек есть человек добродетельный.
В этой в целом оптимистичной и рациональной формуле и кроются предпосылки конца трагедии. В пьесах после Сократа добродетельный герой должен быть диалектичным, должна присутствовать явная связь между добродетелью и знанием, верой и моралью. Трансцендентную справедливость Эсхила Сократ сводит к «плоскому и дерзкому принципу поэтической справедливости».
Сократ – «мистагог науки», в глазах которого никогда не светил приятный огонек безумия. Благодаря Сократу «неведомая дотоле универсальность жажды знания, охватив широкие круги образованного общества и сделав науку основной задачей для всякого одаренного человека, вывела ее в открытое море, откуда она с тех пор никогда не могла быть вполне изгнана; как эта универсальность впервые покрыла всеохватывающей сетью мысли весь земной шар и даже открывала перспективы на закономерность целой Солнечной системы» [3].
Люди разделяют ошибочное мнение Сократа о том, что радость от понимания может исцелить вечную рану бытия: «Кто на себе испытал радость сократического познания и чувствует, как оно все более и более широкими кольцами пытается охватить весь мир явлений, тот уже не будет иметь более глубокого и сильнее ощущаемого побуждения и влечения к жизни» [4].
Но поступать так – значит не обращать внимания на то, что мир – нечто большее, чем копирование феноменов. Существует и дионисийское начало – воля. Потому в поздний период сократической культуры человек «остается вечно голодающим». Александрийский человек, ограниченный рациональностью, «в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток» [5].
Может быть, наше стремление к науке и научным доказательствам – это своеобразный страх, бегство от пессимизма, последнее восстание против истины? Иначе говоря, не является ли оно проявлением моральной трусости и фальши?
Проблему науки необходимо решить. Наука была проблемой в послесократовской Греции, как сейчас, по замечанию Ницше, она остается проблемой в постдарвиновской Европе. Верой в объяснимость природы и в знание как панацею наука разрушает миф. В результате мы впадаем в «старческое и рабское наслаждение существованием».
Ни в один период культура не была под большей угрозой. Когда катастрофа, зарождающаяся в лоне теоретической культуры, начинает угрожать современному человеку, единственное спасение для культуры – взломать заколдованные ворота, ведущие к волшебной горе эллинизма [6].
Кто владеет ключами к волшебной горе? Чьей силы достаточно, чтобы взломать ворота? Шопенгауэра и, разумеется, Вагнера. Опера, сочетающая в себе слова и музыку, являет собой новую форму трагического искусства, в которой воссоединяются дионисийское и аполлоническое начала.
«Музыка будущего» Вагнера основана на обязательном возрождении трагического мифа (немецкого, а не греческого) и диссонансе. Использование им диссонанса в музыке отражает и подтверждает диссонанс человеческой души и разлад между Волей и Представлением, между аполлоническим и дионисийским.
Кто, вопрошает Ницше, может слушать третий акт «Тристана и Изольды», этот «пастуший напев метафизики», и «не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души»? Кто «не был бы сокрушен в одно мгновение» [7]? Это яркий пример дионисийского переживания, причем с мифологической точки зрения – чисто германский.
В какой-то недоступной до сих пор бездне покоится во сне, подобно дремлющему рыцарю, германский дух, несокрушимый и дионисийский по своей природе; из этой бездны до наших ушей доносится проявление дионисийского начала. В «Тристане и Изольде» (тут все начинает запутываться) дионисийское находится на службе у аполлонического. Сверхзадача трагедии – чтобы Дионис говорил словами Аполлона, а Аполлон – словами Диониса. Тогда достигается цель и трагедии, и любого искусства вообще.
Книга содержит множество цитат из либретто «Тристана и Изольды» и завершается воображаемой встречей современного человека с древним греком, которые приступают к работе над трагедией во имя обоих божеств. Хотя «Рождение трагедии» – книга больше о культуре, чем о том, как следует жить, она знакомит нас с идеями, к которым Ницше будет обращаться и впоследствии, когда его философия получит развитие. Дуалистическая природа человека, выраженная в «Рождении трагедии» аполлоническим и дионисийским началами, и необходимость противостоять иллюзии уверенности, рождаемой наукой, будут занимать его мысли до конца сознательной жизни.
Закончив первый черновик книги, он сбежал от тающих снегов Лугано в Трибшен и удивил Козиму, внезапно появившись там к завтраку 3 апреля. Она отметила, что он выглядел очень измотанным, и упросила остаться на пять дней. Он вслух читал свою рукопись, которая тогда носила название «Происхождение и цель греческой трагедии». Козима и Вагнер были в восторге: многие положения книги представляли собой сумму их идей, развившихся за последние несколько лет. Да и как им было не увлечься призывом к обновлению национальной культуры посредством музыки Вагнера?
Внезапно всё и вся в Трибшене стало аполлоническим или дионисийским. Вагнер дал Козиме новое любовное прозвище: теперь она именовалась его «аполлоническим духом». Сам он уже был Дионисом в любовном треугольнике, но после знакомства с книгой Ницше начал осознавать эту роль по-новому. Вагнер включил термины «аполлоническое» и «дионисийское» в речь «О судьбе оперы», которую должен был представлять через три недели в Академии наук в Берлине. После этого была запланирована его личная встреча с Бисмарком. Так зарождалось общее культурное направление Германского рейха.
Однако хотя все это было лестно для Ницше, он ощущал себя человеком более буркхардтовского, более европейского типа, чем Вагнер. Он не мог одобрить радости Вагнера от страданий Парижа в прусской осаде. Вагнер называл Париж «продажной девкой мира» и потирал руки от удовольствия оттого, что город наконец-то настигает возмездие за легкомысленное поведение, предпочтение элегантности перед серьезностью и «франко-еврейскую тривиализацию культуры».
«Рихард хотел написать Бисмарку и предложить стереть Париж с лица земли» [8], – отметила Козима. Ницше же придерживался иной точки зрения: он был охвачен жалостью к невинным парижанам и ужасом оттого, что его страна стала причиной таких страданий.
Музыка в Трибшене перестала радовать слух Ницше. Дети распевали новый привязчивый Kaisermarsch, который Вагнер сочинил во славу провозглашенного императора, а маэстро читал вслух новое стихотворение, восхваляющее прусскую армию, которая осаждала Париж. То, что казалось Ницше проявлением варварского стремления к уничтожению культуры, Вагнер считал знаком культурного обновления. Композитор полагал, что если вы не можете снова писать картины, то недостойны и обладать ими. Если не учитывать уродливый национализм Вагнера, это была чисто дионисийская, оригинально творческая точка зрения в сравнении с чисто историческим, аполлоническим стремлением Ницше к сохранению здания культуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Сью Придо - Жизнь Фридриха Ницше [litres]](/books/1147817/syu-prido-zhizn-fridriha-nicshe-litres.webp)

![Алекс Анжело - Я превращу твою жизнь в ад. Герадова ночь [litres]](/books/1056682/aleks-anzhelo-ya-prevrachu-tvoyu-zhizn-v-ad-geradova.webp)
![Игорь Прокопенко - Коронавирус. Жизнь после пандемии [litres]](/books/1060203/igor-prokopenko-koronavirus-zhizn-posle-pandemii.webp)
![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/1067111/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres.webp)
![Эбби Ваксман - Книжная жизнь Нины Хилл [litres]](/books/1070300/ebbi-vaksman-knizhnaya-zhizn-niny-hill-litres.webp)
![Александра Бракен - Последняя жизнь принца Аластора [litres]](/books/1074354/aleksandra-braken-poslednyaya-zhizn-princa-alastora.webp)
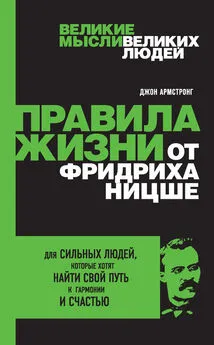
![Сьюзен Пфеффер - Жизнь, какой мы ее знали [litres]](/books/1144667/syuzen-pfeffer-zhizn-kakoj-my-ee-znali-litres.webp)