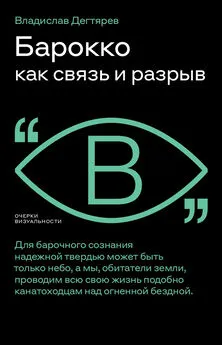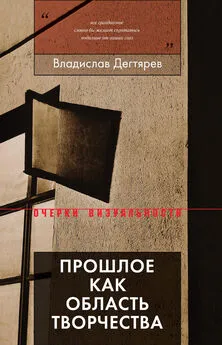Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]
- Название:Барокко как связь и разрыв [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814918
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres] краткое содержание
Барокко как связь и разрыв [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Точно так же и бодлеровская современность, о которой не знали в прежние времена, предполагает наличие некоей дистанции, разрыва, в общем – непреодолимой границы, отделяющей от нас прошлое, которое, в свою очередь, становится не просто суммой каких-то завершившихся событий, но одним из тех потерянных состояний, упомянутых Калассо. Сущность прошлого, понимаемого таким образом, состоит в том, что оно закончено, закрыто, недоступно и качественным образом отличается от настоящего. История, состоящая из последовательности этих неустранимых разрывов, превращается в судьбу, подобную судьбе индивида.
Однако эта современность, нашедшая в Бодлере своего певца, пока не знала своего художника (если не считать таковым эффектного рисовальщика Константена Гиса, которому Бодлер посвятил известный очерк 154 154 Бодлер Ш. Поэт современной жизни // Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. С. 283–315.
). Всемирная выставка 1851 года не показала примеров искусства, по своей смелости сколько-нибудь приближающегося к архитектурным формам Хрустального дворца. Техническая революция середины XIX века не нашла практически никакого отражения в живописи того времени: так, железные дороги породили вовсе не футуризм, а всего лишь жанр вокзальных и вагонных сценок (картина Уильяма Тёрнера «Дождь, пар и скорость» (1844) была единственным исключением из этого правила). Бёрн-Джонс прямо говорил, что чем больше паровозов построят «они» (ненавистные прогрессисты, уродующие землю), тем больше ангелов он нарисует.
Другая сторона той же медали – прошлое, изображенное как иной мир. Допустим, так, как это делает Вирджиния Вулф в «Орландо»:
Век был елизаветинский; их нравы были не то что наши нравы; ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще – красней; рассветы – аврористее и белей. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливмя, или уж совсем не шел. Солнце сияло – или стояла тьма 155 155 Вулф В. Орландо // Вулф В. Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо: Романы. М., 2018. С. 364–365.
.
Если жизнь подражает искусству, о чем постоянно напоминал Оскар Уайльд, то любое непривычное искусство заставляет нас видеть другой мир, заставляет нас предполагать, что в оливковых рощах Греции или в небесах Средних веков действительно скрывались боги и ангелы, которых мы разучились видеть. Однако вывод, следующий из этих декадентских умозаключений, оказывается страшным в своей неизбежности: каждая из известных нам культурно-исторических эпох заканчивалась мировоззренческой катастрофой. Частный и ограниченный рай все равно предполагает неизбежность грехопадения.
В творчестве Россетти есть смысловая пара изображению Прозерпины в подземном царстве – картина под названием «Грезы» или, в буквальном переводе, «Дневные сны »(«Day Dream», 1880, Музей Виктории и Альберта, Лондон), изображающая Прозерпину, временно возвратившуюся на землю 156 156 Faxon A. C. Op. cit. P. 195.
. Фигура Джейн кажется врисованной в орнамент моррисовских обоев, где для нее не остается никакого пространства, только свет, которого ей так не хватало в подземелье, свет, льющийся откуда-то сзади, из глубины. Хотя ветви дерева кажутся клеткой, но, когда придет время возвращаться в чертоги Аида, удержаться за них будет невозможно. (Фон же картины «Beata Beatrix» 157 157 Т. е. основной ее версии, находящейся в лондонской галерее Тейт.
, изображающей смерть Беатриче, представляет собой практически абстрактную игру света в духе Тёрнера. Возможно, это угасание сознания или самого мира, вырождающегося в набор световых фантомов, пятен на сетчатке глаза.)
Меланхолия связана с тайной, так как дистанция неустранима, а тайна непостижима. Кажется, аналогичным образом можно связать ностальгию и загадку: они обе пытаются слиться с объектом желания, устраняя любой пространственный промежуток, любую смысловую неоднозначность.
Тесную связь меланхолии и тайны почувствовал Честертон:
Представьте, что кто-нибудь говорит: «Сорви этот цветок, и в далеком замке умрет принцесса». Мы не знаем, почему нас охватывает тревога и невозможное кажется нам неизбежным. Представьте, что мы читаем: «И когда король погасил свечу, его корабли погибли далеко у Гебридских островов». Мы не знаем, почему воображение примет это раньше, чем оттолкнет разум, но что-то очень глубокое задевают эти слова – смутное ощущение, что большие вещи зависят от маленьких: темное чувство, что окружающие нас предметы значат гораздо больше, чем мы думаем, и многое другое 158 158 Честертон Г. К. Вечный человек. М., 1991. С. 154–155.
.
Вот он, заколдованный мир, проникнутый симпатическими связями, которые в XVII веке стремился приручить Кенельм Дигби 159 159 Сэр Кенельм Дигби (1603–1665) – английский дипломат, литератор, изобретатель и алхимик, один из основателей Лондонского королевского общества. Будучи католиком по рождению, вынужденно принял протестантизм, но впоследствии вернулся в католичество. В своем основном сочинении «Два трактата» (1644) рассматривал различные доказательства в пользу бессмертия души.
, кавалер, алхимик и естествоиспытатель, исследовавший возможность лечения ран на расстоянии и ставший впоследствии персонажем «Острова накануне» Умберто Эко.
Поскольку переживание дистанции осуществляется через слова, меланхолия нуждается в развитом языке, больше того – в письменности. Тексты, порожденные меланхолией, именно потому столь многочисленны и столь объемны, что язык оказывается не в состоянии адекватно отобразить опыт. И если повествование (любое повествование) представляет собой неадекватное подобие мира, то будучи записанным, оно будет дважды неадекватным.
Что могла рассказать Персефона о своей жизни с матерью? Пожалуй, что ничего или почти ничего. Тогда не была ли она вознаграждена за свое изгнание и заточение языком и памятью? И не получается ли так, что память невозможна без меланхолии, а сама речь – без потребности рассказать о чем-то утраченном?
Кажется, никакой разговор о памяти не может обойтись без упоминания знаменитого эпизода из платоновского «Федра», в котором фараон Тамус критикует письменность, только что изобретенную Тевтом (Тотом, т. е. Гермесом Трисмегистом позднейшей традиции). Этот разговор завершается темой забвения или, точнее, забывания, причем фараон как будто видит в нем новое и очень грозное бедствие.
Заключительная реплика фараона в передаче Сократа звучит так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]](/books/1149249/vladislav-degtyarev-barokko-kak-svyaz-i-razryv-lit.webp)


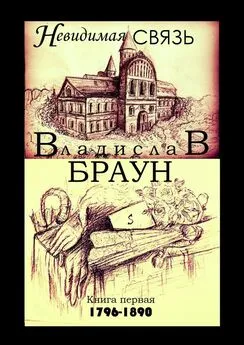
![Владислав Гайдукевич - Расширить сознание легально [litres]](/books/1065622/vladislav-gajdukevich-rasshirit-soznanie-legalno.webp)
![Владислав Жеребьёв - Бригадир. Судьба «Артефакта» [litres]](/books/1071125/vladislav-zherebev-brigadir-sudba-artefakta-l.webp)
![Дмитрий Владимиров - Красная книга начал. Разрыв [litres]](/books/1081398/dmitrij-vladimirov-krasnaya-kniga-nachal-razryv-li.webp)
![Владислав Выставной - Метро 2035: Крыша мира [litres]](/books/1086492/vladislav-vystavnoj-metro-2035-krysha-mira-litres.webp)
![Татьяна Гармаш-Роффе - Разрыв небесного шаблона [litres]](/books/1150397/tatyana-garmash.webp)