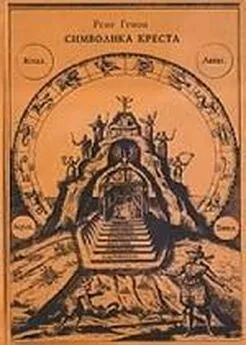Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике
- Название:Очерки о традиции и метафизике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рене Генон - Очерки о традиции и метафизике краткое содержание
Книга Рене Генона (1886-1951), одного из наиболее влиятельных европейских философов эзотеризма, представляет собой сборник статей, расположенных по разделам, соответствующим структуре традиционного знания. В них представлена вся шкала интересов Генона, который усматривал скрытый смысл и единство содержания как в высокой метафизике или религиозной мистике, так и в истории алхимии или карт Таро.
Очерки о традиции и метафизике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Осталось сделать только одно, но самое важное замечание: метафизика не только не сводится концепции отношений между различными противоположными и дополняющими друг друга аспектами бытия — будь это такие его особые аспекты, как дух и материя, или, наоборот, такие универсальные аспекты, как «сущность» и «субстанция», — но она не сводится также и к концепции чистого универсального бытия, поскольку она вообще не может быть ни к чему сведена. Метафизику нельзя определить только как «знание о бытии», как это делал Аристотель: строго говоря, это определение относится только к онтологии, которая, без сомнения, является разделом метафизики, но которая никогда не заменяет собой метафизику в целом; и именно в этом отношении метафизика Запада всегда остается неполноценной и незавершенной, хотя есть и некоторые иные тому причины. Бытие не является в действительности самым универсальным из всех принципов, как это должно было бы следовать из совпадения метафизики с онтологией, и не является прежде всего потому, что если даже бытие и оказывается самым первым из всех возможных определений, то оно все же остается именно определением, а каждое определение есть некоторое ограничение и как таковое несовместимо с метафизической точкой зрения. Очевидно, что унивёрсальность любого принципа будет тем меньше, чем больше степень его же определенности, которая предполагает соответствующую степень относительности; используя язык математики, можно сказать, что определенный «плюс» эквивалентен метафизическому «минусу».
Эта абсолютная неопределенность наиболее универсальных принципов, которые должны, следовательно, рассматриваться прежде всего остального, является причиной вполне понятных трудностей, касающихся не столько самих концепций, сколько способов изложения метафизических доктрин, и именно поэтому часто оказывается совершенно необходимым прибегать в этом изложении к чисто негативным формам выражения. Именно поэтому идея Бесконечного (которая в действительности является самой положительной идеей из всех существующих, поскольку только Бесконечное может представлять собой абсолютное целое, ничем не ограниченное и не оставляющее ничего за своими пределами) может быть выражена только через отрицательное по своей форме понятие, так как в языке любое прямое утверждение всегда оказывается утверждением чего-то определенного, а значит, всегда чего-то частичного и ограниченного; но здесь мы подошли к вопросу, который уже выходит за пределы темы настоящего очерка и к которому мы еще обязательно вернемся.
Метафизическая реализация
Перечисляя самые важные признаки метафизики, мы уже говорили, что она, между прочим, представляет собой разновидность интуитивного или, иными ловами, непосредственного знания, в противоположность знанию дискурсивному и опосредованному, которое принадлежит рациональному уровню познания. Интеллектуальная интуиция является даже более непосредственным знанием, чем интуиция чувственная, поскольку первая оказывается за пределами различия между субъектом и объектом, в то время как последняя только и может существовать благодаря ему; интеллектуальная интуиция представляет собой в одно и то же время и средство познания, и само знание, в котором субъект и объект познания тождественны друг другу. На самом деле никакое знание не заслуживает того, чтобы называться знанием, если благодаря ему не достигается такое отождествление, хотя, за исключением случая с интеллектуальной интуицией, это отождествление и остается неполным и незавершенным; другими словами, не существует истинного знания кроме того, которое в той или иной степени не причастно природе истинного интеллектуального познания, то есть высшего вида познания. Всякое иное знание, являясь так или иначе опосредованным, имеет в лучшем случае только символическое или репрезентативное значение; единственным подлинно эффективным познанием является тот его вид, который позволяет нам проникать в самую сущность вещей, и это проникновение может быть достигнуто на более низких ступенях познания только в том случае, если в познании метафизическом оно было полностью реализовано.
Из этого самым прямым образом следует, что бытие и знание о бытии есть в принципе одно и то же; это два, если можно так сказать, неотделимых друг от друга аспекта одной-единственной реальности, которые уже нельзя различить на уровне «не-двойственности». Самого по себе этого достаточно, чтобы показать, насколько бесполезны все разнообразные, в том числе и с определенными метафизическими претензиями, «теории познания», занимающие столь значительное место в современной западной философии, а иногда даже, как, например, у Канта, поглощающие в себя все остальные разделы философии или по меньшей мере доминирующие над ними. [58] В том, что касается Канта, это замечание свидетельствует об интерпретации философии последнего в духе Марбургской школы и поэтому справедливо лишь отчасти. Но для европейской философии Нового времени в целом оно полностью справедливо.
Единственная причина существования таких теорий находятся в особой установке сознания, порожденной картезианским дуализмом и затем принимаемой почти всеми философами современности; эта установка, в частности, выражается в искусственном противопоставлении знания и бытия, противопоставлении, которое приводит к отрицанию всякой подлинной метафизики. Так, современная философия отказывается от всякого стремления получить вместо теорий познания само знание как таковое, и этот отказ означает открытое признание в своей беспомощности; нет ничего более характерного в этом отношении, чем следующее заявление Канта: «Главная и, возможно, единственная польза философии чистого разума является исключительно негативной, поскольку она оказывается не инструментом для расширения знаний, а дисциплиной, их ограничивающей». [59] Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. Т.3. 1964. С.256.
Не означают ли эти слова простого и ясного стремления философов навязать всем вещам узкие границы своего собственного понимания? Здесь мы опять видим неявные последствия систематического взгляда на вещи, который, позволим себе еще раз повторить, является в наивысшей степени антиметафизическим.
Метафизика утверждает фундаментальное тождество бытия и познания, которое может быть поставлено под сомнение только теми, кто вообще ничего не знает о самых элементарных метафизических принципах; и поскольку это тождество предполагается, в сущности, самой природой интеллектуальной интуиции, то метафизика не только утверждает, но и реализует его в полной мере. Это верно по крайней мере для интегральной метафизики; однако здесь следует добавить, что та метафизика, которую можно обнаружить на Западе, всегда оставалась незавершенной именно в этом отношении. Тем не менее Аристотель ясно излагает принцип тождества, когда заявляет, что «душа есть все то, что она знает». Но ни он сам, ни его последователи, кажется, либо не понимали полностью смысл этого утверждения, либо делали из него такие выводы и таким образом, что оно для них оставалось утверждением чисто теоретическим. Конечно же, это лучше, чем ничего, но это все-таки еще далеко от истины, и поэтому западная метафизика остается незавершенной вдвойне: с одной стороны, она не выходит, как мы уже сказали, за пределы бытия, а с другой стороны, она рассматривает все вещи только в теоретическом свете. Теория рассматривается здесь так, как если бы она была самодостаточной и завершенной в себе самой, в то время как при нормальном положении вещей на теорию смотрят только как на определенную подготовку, причем совершенно необходимую, к соответствующей ступени реализации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: