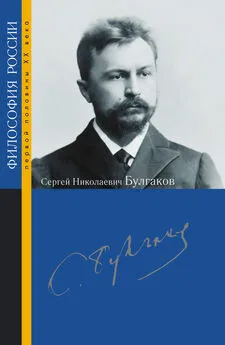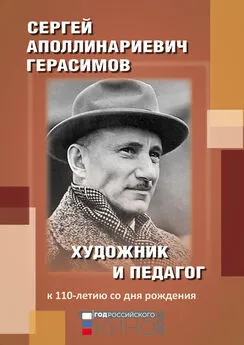Array Сборник статей - Сергей Иосифович Гессен
- Название:Сергей Иосифович Гессен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2375-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник статей - Сергей Иосифович Гессен краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, педагогикой, научными связями между Россией и Германией до начала Первой мировой войны, а также историей литературно-издательских начинаний в России начала ХХ века.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Сергей Иосифович Гессен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В начале Гессен настоятельно подчеркивает, с какими тенденциями исторического Канта «борется» трансцендентальный эмпиризм, какой шаг он делает, чтобы «превзойти Канта», не разделяющего общеродовое и общезначимое. Гессен, вслед за Риккертом, включая первое в последнее, вводит понятие более глубокой, допонятийной действительности с целью «транспонировать эмпирические требования в трансцендентальное» – понятие «объективной действительности», в основе которого находится новое понимание «созерцания» (Anschauung): «Созерцание – это объективная действительность, которая так же, как и понятия, конституируется через различные формы (категории): причинность, вещность, формы времени и пространства». Действительность и понятия бытия различает, таким образом, не объективность, а очевидная многообразность (Mannigfaltigkeit) созерцания, «необходимость преодоления которого и является результатом логической работы понятия» [71] Hessen S. Über individuelle Kausalität. S. 13.
. Исходя из вышеизложенного различения общеродового и общеобязательного на месте старого противоречия между субъективным созерцанием и объективным понятием, выходят следующие пары противоречий-понятий: «Понятие ценности или формы – созерцание как простое содержание и понятие бытия – созерцание как многообразная действительность. Понятие формы обладает трансцендентальной общностью и может конституировать не только общие, но и индивидуальные понятия, а даже и индивидуальную действительность» [72] Hessen S. Über individuelle Kausalität. S. 14.
. Трансцендентальный эмпиризм, который разрабатывает Гессен, позиционируется им по отношению к послекантовским течениям. Он констатирует, что объединение эмпирии и рациональности происходит через признание понятий «действительности» и «мира» предельными познавательными всеохватывающими общеродовыми понятиями, обладающими одновременно наибольшей абстракцией. Но такое всеобщее родовое понятие как «бытие вообще» полностью разрешается Авенариусом, с чем соглашается и трансцендентальный эмпиризм. Последний отделяет «понятие мира» (Weltbegriff) как наиболее общее родовое от «понятия бытия» (Seinsbegriff), пригодного для естественных наук, и превращает его при этом в трансцендентально-общее «понятие ценности» (Wertbegriff) как априорное условие, которое делает его оправданным как для понятия бытия естественных наук, так и созерцания (Anschauung) как многообразной объективной действительности.
Наиболее оригинальным, занимающим центральное место в трансцендентальном эмпиризме Гессена является не столько понятие индивидуальной причинности, которое мы находим уже у Риккерта, сколько понятие «первичной причинности». Следуя трансцендентальному методу, понятие первичной причинности должно пройти чисто формальную обработку. Это означает исходить из формально «невоспринимаемого» (и, таким образом, «непереживаемого»), «несущего» (как неметафизического, так и неэмпирического воздействия) элемента, который означает объективную действительность с позиции трансцендентального эмпиризма. Первичная причинность означает форму, которая входит в содержание и конституирует первоначальную необходимость суждения. Гессен говорит о бесконечном многообразии ранее определенной им созерцаемой действительности, нетронутой научной, обобщающей обработкой понятий, а посему первичная причинность определяется как «необходимость временной последовательности кусков действительности» [73] Ibid. S. 79.
, для которой «возможность возврата (Wiederkehrens) исключена», так как «действительность, – по Гессену, – никогда не повторяется. То же самое относится и к исторической причинности…» [74] Ibid. S. 81.
Понятие кусков действительности (Wirklichkeitsstücke) с необходимостью предполагает целое, «тотальность действительности», не поддающейся в своем бесконечном многообразии мышлению конечного субъекта. Следовательно, необходимо допущение «intellectus archetypus, который интуитивно созерцает замкнутую в себе объективную действительность» [75] Ibid. S. 90.
. Как тогда Гессен мыслит «первичную причинность действительности» (primäre Wirklichkeitskausalität)? Гессен, постоянно указывающий на отличие трансцендентального эмпиризма от рационалистического монизма (натурализма) и метафизики, отказывающий трансцендентальным категориям в статусе действительности, неожиданно говорит о «мыслимой метафизически завершенной действительности», т. е. переходит границы от объективности и научности к метафизике, указывая тем самым и на границу действия трансцендентального эмпиризма, не способного решить проблему завершенности, тотальности действительности. Сначала речь идет о введенном им понятии объективной действительности: «В своей тотальности она расстилается перед нами как замкнутая, покоящаяся в себе всейность (Allheit): прошлое, настоящее и будущее сняты (aufgehoben), они образуют непрерывное полностью замкнутое постоянное целое. Само время теряет здесь всякий смысл. Время и пространство совпадают, остается только в некоторой степени недифференцированная форма созерцания. Соответственно и причинность теряет свое особенное значение, которое отличает ее, например, от субстанциальности. Эта мыслимая метафизически завершенной действительность является нам как бесконечная всеобъемлющая вещь, причинная необходимость временной последовательности становится постоянным необходимым совместным бытием, с необходимостью взаимосвязанные вещи становятся свойствами постоянной вселенной, которая представляет эту достигшую своей идеальности действительность» [76] Ibid.
. Эта мыслимая завершенной действительность является «царством абсолютной необходимости», а понятие первичной причинности теряет свои специфические свойства и оборачивается в противоположное понятие необходимости. Приведение последовательного анализа первичной причинности к своей противоположности – необходимости, является, по Гессену, свидетельством «невозможности применения понятия формы к тотальности содержания», а также того, что такое понятие формы «не имеет соответствующего ему объекта, который оно конституирует», и что, таким образом, оно является «лишь регулятивным принципом» [77] Hessen S. Über individuelle Kausalität. S. 92.
. Такой ход Гессен заимствует у Канта, указывающего в трансцендентальной диалектике на то, что идеи нельзя использовать в качестве конститутивных принципов, способных к высказываниям об объектах, а только как регулятивные принципы, которые служат лишь указанием пути, по которому следует идти, если рассматривать объекты с научной точки зрения. Таким образом, идеи – это «правила рассмотрения объектов», а «не законы их устройства», они субъективны и относятся к трансцендентной сфере долженствования, стоящей над научной сферой понятийной обработки действительности. Первичная причинность через свою противоречивость в метафизическом рассмотрении также указывает на то, что ее можно охватить только как регулятивный принцип, как идею, как понятие формы (Formbegriff) без понятия бытия (Seinsbegriff), в противном случае она становится конститутивной. Означает ли это, что первичная причинность является чистой формой? Ведь в ее определение входит содержательное понятие «куски действительности», а значит ее нельзя полностью оторвать от содержания. В свою очередь, можно ли содержание, вещь рассматривать без понятийных наслоений формы, можно ли дойти до чистой формы созерцаемой многообразной действительности? Ответ следует из «квази-догматической предпосылки, что действительность никогда не повторяется», вводимой Гессеном, вслед за Риккертом, и состоящей в том, что, если «осмыслить всю глубину» этого положения и мыслить его последовательно до конца, то окажется, что «“действительным” является только моментальное состояние вещи» [78] Ibid. S. 96, 97.
. При этом нельзя констатировать изменения, а следовательно, последовательности, «каузальность в чистой действительности теряет свой смысл» [79] Ibid. S. 98.
, а вместе с постоянством, являющимся определяющим для субстанции, теряет в чистой действительности свой смысл и субстанциональность, превращая понятие субстанции из конститутивного принципа в пределе мыслимой чистой субстанции в регулятивный принцип, поскольку «достижение» собственно действительности означает ее снятие как понятия действительности. Таким образом, «если мы мыслим действительность завершенной, причинность превращается… в субстанциальность, или лучше сказать, оба они совпадают, чтобы разрешиться в высшую форму необходимости» [80] Ibid.
. Оба принципа выступают как регулятивные, указывая на необходимость и невозможность завершения их окончательного определения. Понятие первичной причинности является одним из последних в теоретической области, оно не допускает дальнейшей редукции. Первичная причинность – это общее условие как общей закономерности, так и исторической причинности, хотя она и не относится к ним как понятие целого к частям и как общеродовое понятие. Понятие первичной причинности как необходимости временной последовательности относится только к причинной действительности, оно представляет другой тип общего, абстрагирования: «трансцендентальная общность является общностью предпосылки, примиряющей противоречия нижних форм, [общностью. – Ю. М] требования, которое показывает проблему, вовлекающую в себя все нижние проблемы» [81] Ibid. S. 147.
Гессен ссылается на Канта, интерпретируя его положение о том, что чистые категории «сами они… не могут быть определены», они «суть ничто иное как представления о вещах вообще» [82] Кант И. Критика чистого разума. Т II. Ч. 2. 1-е издание (А). 1781 // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. II. Критика чистого разума: В 2 ч. Ч. 2. М., 2006. C. 321.
. Мы не можем дать реального определения ни одной категории, сделать ее объект понятным, без того чтобы сразу же не опуститься до необходимости условия чувственности. Таким образом, регулятивные категории только указывают и описывают проблемы, которые наука не может решить , являясь только пограничными понятиями.
Интервал:
Закладка: