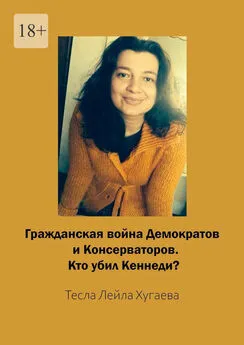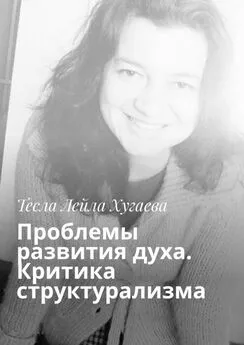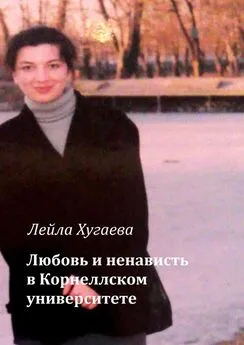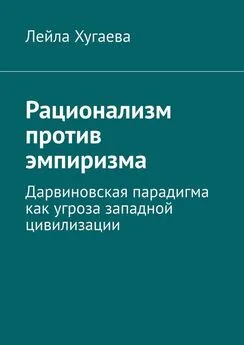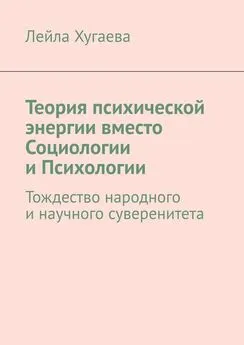Тесла Лейла Хугаева - Ось мировой истории. Авраамические религии и век разума
- Название:Ось мировой истории. Авраамические религии и век разума
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005195838
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тесла Лейла Хугаева - Ось мировой истории. Авраамические религии и век разума краткое содержание
Ось мировой истории. Авраамические религии и век разума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Л. Клейн пишет в «Истории антропологических учений», что книга Робертсона Смита «Религия семитов» имела для автора, который доказывал богодохновенность Библии, неожиданный, даже противоположный результат, поскольку его аргументами стали доказывать происхождение Библии из магического сознания аборигенов. Но мы видели, что Ясперс, например, сделал другие выводы, в полном соответствии с позицией самого автора, о том, что этические религии – это уже начало рационального мышления и пробуждения духовной энергии, чего не скажешь о магическом сознании дикарей. Дюркгейм не согласен с Ясперсом, он считает, что этические религии самых развитых цивилизаций и тотемические религии самых примитивных аборигенов абсолютно одинаковы, в них нет никакой борьбы между разумом и мистикой, а есть только потребность совместных ритуалов для соединения психической энергии людей. Так Дюркгейм понимает психическую энергию.
Леви-Брюль развил свою знаменитую концепцию двух качественно различных сознаний в пику Дюркгейму, почерпнув идею именно в «Религии семитов» Робертсона Смита. Он отказался признавать, подобно Ясперсу, какую-либо эволюцию в структуре каждого из этих сознаний: если есть какая то эволюция, то только в соотношении этих двух сознаний в психике человека. Как Ясперс говорит, что развитие идет только в сфере накопления знаний, но не в самой природе сознания человека, так и Леви-Брюль настаивал, что нет и не может быть ничего общего между мистическим сознанием и логическим сознанием, что они не являются стадиями друг друга (как утверждал например Конт), и что они продолжают существовать одновременно в сознании современных цивилизованных людей в своем первозданном виде. Мы уже видели, что о том же говорили в своих теориях психической энергии Платон и Спиноза, Кьеркегор и гуманистические психологи.
Карл Юнг и Мирча Элиаде – теоретики совершенно иного толка. Л. Клейн пишет, что в 60-е годы прошлого столетия они совместно выпускали журнал «Антей». Действительно, сходство их идеологии бросается в глаза. Нам они интересны постольку, поскольку Юнг сформулировал одну из самых известных на сегодня теорий психической энергии.
Мирча Элиаде, известный историк религии американских и европейских университетов, дает прямо противоположную Ясперсу и Робертсону Смиту концепцию религии. Он говорит о том, что именно первобытное сознание дикарей с его мистикой и коллективными магическими ритуалами близко к истокам истинной духовности, истинной божественности, истинной природы человека. Что «язычество» в этом отношении много «духовнее» христианства. Он противопоставляет цикличное время аборигенов линейному времени научных цивилизаций, он противопоставляет прогрессистским теориям запада теорию инволюции, о золотом веке первобытных обществ. Элиаде говорит, что рациональные цивилизации – это обычная мирская жизнь, которая есть потеря связи с истоками. Тогда как магические ритуалы аборигенов – это сакральная жизнь, которая восстанавливает резервы духовной энергии человека, его истинной сущности. Поэтому время циклично – оно движется от ритуалов к ритуалам, а како-то там научное развитие не имеет никакого значения. Его теория – полная противоположность теориям Робертсона Смита и Ясперса: у него начало рациональной эпохи стало началом деградации духовности человека, поскольку человек лишился своих мистических корней, своей связи с подлинной магией, которая составляла его природу. Поэтому те первобытные общества, в которых эта магия еще сильна, много ближе к своей истинной природе и к духовной энергии, чем люди рациональных цивилизаций. Счастливая жизнь в циклическом времени, приходит он к выводу, ибо люди живут от одних магических ритуалов, в которых они оживляют свои мифы, до других магических ритуалов, возвращаясь к истокам в эти священные моменты «иерофаний» (то есть воплощения сакрального в жизнь человека).
Л. Клейн пишет, что Мирча Элиаде создал новую для западной науки концепцию «человека религиозного», которого он противопоставил «человеку разумному». Это не совсем так, если верить Робертсону Смиту и Ясперсу, которые утверждают, что магическое сознание дикарей не есть духовная энергия, и что этические религии уже ближе к духовной энергии именно в силу своего противостояния мистике, и именно потом, что это революционный поворот к рациональному мышлению. Это находит подтверждение во всех последовавших протестантских революциях, которые имели целью еще больше очистить этические религии от мистики (магии) и приблизить их к рациональному и осмысленному служению добру и истине. Л. Клейн пишет, что некоторые говорят, что Элиаде разделил сакральное и профанное, но на самом деле, его роль в том, что он их смешал. Это абсолютно верно. Он смешивает мистическое сознание дикарей с разумным сознанием научных цивилизаций в хаотичное варево.
Как бы там ни было, теория психической энергии К. Юнга во всех основных аспектах воспроизводит теорию иерофаний Мирчи Элиаде. Юнг был какое-то время адептом Фрейда, но позже порвал с ним из-за своей концепции «коллективного бессознательного», которая играет в его аналитической психологии такую же роль, как иерофании у Элиаде.
Юнг предполагает, что коллективное бессознательное – «это „чрево“, о котором говорит Павел»:
«Есть нечто в нашей душе от высшей власти – и если это не осознанный бог, тогда все же по крайней мере это – „чрево“, как говорит Павел. Поэтому я считаю более мудрым осознанно признавать идею бога».
«Коллективное бессознательное» у Юнга – это вместилище сакрального, это «мир идей» Платона наоборот, поскольку Платон говорил об идеях интеллекта, в Юнг вслед за Элиаде говорит об идеях мистики, о мифах, которые он называет «архетипами». Его «архетипы» больше чем просто мифы; они и мысль, и чувства, и опыт всего человечества, и даже опыт всего животного мира. Вот где действительно, «смешались кони, люди». Опять же подобно Элиаде, он безжалостно смешивает рациональное и мистическое в одну неразличимую кучу, из которой уже невозможно достать что-либо вразумительное и резонное. Поэтому он вынужден честно заявить, что «Сущность сознания – это загадка, решения которой я не знаю», и что «при таком положении вещей бессознательное представляется нам большим иксом, где единственно несомненным является то, что из него исходят значительные воздействия». Он определяет сознание через метафору со светом прожектора, а бессознательное соответственно через метафору с тьмой: «Поэтому мы любим сравнивать сознание со светом прожектора. Только те предметы, на которые падает конус света, попадают в поле моего восприятия. Однако предмет, который случайно оказывается в темноте, не перестает существовать, он просто становится невидимым».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: