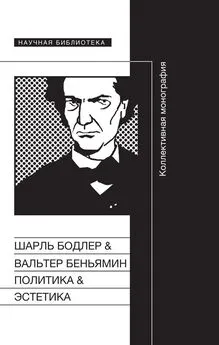Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Название:Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005131270
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография краткое содержание
Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Руки в перчатках, лицо в маске – это, быть может, самый тяжелый для адаптации, самый некомфортный тип дистанционности новейшей эпохи. Сколько томов написано за последнее время о дистанционном общении, дистанционных видах работы, обучения, восприятия искусства… А период пандемии поставил человека перед необходимостью дистанционного взаимодействия со своим собственным телом. Пускай в основном это касается публичных пространств, публичных видов деятельности, но ведь такие виды деятельности являются неотъемлемой частью нашего социума и требуют многочисленной рабочей силы. Дистанционность по отношению к собственному телу в течение всего рабочего дня – это довольно суровое испытание.
До эпохи пандемии шло неуклонное наращивание психофизического комфорта в публичном разомкнутом городском пространстве, в публичных интерьерах. Многие оккупировали кафе, торговые центры, а в хорошую погоду парки и скверы, сидя там часами за ноутбуками или со смартфонами, проворачивая дела, встречаясь с партнерами по работе, планируя отдых и развлечения, или просто отрешаясь от всего, как бы уходя на тайм-аут – и при этом чувствуя себя даже лучше, чем дома или в офисе. Это была территория «ничейная» и всеобщая, ассоциирующаяся с комфортом, индивидуальной безответственностью и безопасностью – это было как бы продолжением дома, как бы личным отелем и внутренним двориком без названия и замков, всегда готовым впустить к себе любого платежеспособного или просто «непроблемного» клиента, фланера, пользователя, наблюдателя.
Пандемия упразднила свободную текучесть города, в котором неуловимо переходят друг в друга территории дома и публичных открытых пространств. Чтобы «грамотно» ступить за порог, надо надеть не только уличную обувь, но перчатки и маску, а также вооружиться флаконом антисептика. Такого выхода нельзя не заметить. Все, что за порогом своего дома, тем самым, кодируется как опасность, экстремальность, зараза, грязь, неизвестность . А ведь только что нам казалось, что в современной цивилизации немало общедоступных зон, где ничего этого нет, риски минимальны, опасности пригашены.
Попробуйте насладиться чашечкой кофе, выпитой после того, как маска приспущена на подбородок и шею. Пить кофе так можно – но о наслаждении придется забыть, если только не обладать сверхмощными способностями абстрагирования от всего, что мешает, раздражает, утомляет. Попробуйте взять рукой в одноразовой перчатке самоклеящийся чек на весах овощного отдела супермаркета, приклеить на пакет с картофелем или яблоками – и не приклеиться к нему перчатками.
Мы привыкли к беззаботности и даже наслаждению при походе в магазин. Даже те, кто глубоко презирает массовую культуру и общество потребления, в душе нередко испытывали немало позитивных эмоций от простых бытовых акций в современном городе. Быт в мегаполисе за последние двадцать лет стал проще, комфортнее, незаметнее. Теперь же мы снова его то и дело ощущаем как тягостную ношу. Необходимость что-то потреблять превратилась на период карантина в проблему – решаемую, и даже успешно. Но проблему.
Потребление, в котором современное общество привыкло искать наслаждений и развлечений, перестало вызывать удовольствие и развлекать. Стало очевидно, что потребление – это не награда, не аттракцион и не право, а неизбежность, усложняющая жизнь. Мы больше не «общество потребления», мы – общество, обреченное на потребление.
В 1980-е Э. Тоффлер писал в «Третьей волне» о перспективе тенденций, противоположных мегаполисным: «Поскольку средства коммуникации начинают заменять поездки, мы можем ожидать, что расположенные по соседству ресторанчики, театры, пивные и клубы станут процветать, оживятся церковные приходы и деятельность групп добровольцев – и все это, или почти все, на уровне живого общения» [8]. Однако мегаполис, во всяком случае, российский, продолжал жить по своей логике. Цивилизация стала густой сетью накрывать самые отделенные его территории. Каждый район обзавелся одним или несколькими торгово-досуговыми центрами, множеством салонов красоты, кафе. Во многих районах строятся церкви. Иногда открываются театры или выставочные галереи, притом размещаются в самых ранее немыслимых местах, включая те же торгово-досуговые центры. Однако все же основные очаги культурного досуга по традиции в основном воспринимаются связанными с центром города – театры, концерты, музеи, активно функционирующие выставочные комплексы, большие библиотеки «остались» там. Это вдруг стало очень далеко, как на другом континенте, – учитывая, что в период карантина был необходим специальный пропуск для проникновения в метро, специальное разрешение для использования такси.
В месяцы самоизоляции доступный мир для многих сжался до нескольких кварталов. До тех улиц и перекрестков с магазинами и аптеками, куда можно дойти, не садясь в транспорт, не спускаясь в метро. Не надо в центр, нельзя в другие районы, на другой конец города, вообще всюду, куда идти долго. Культурный центр оказался отрезан от спальных районов. Цивилизация же, теперь повсеместная, осталась с горожанином в тех формах и учреждениях, до которых можно дойти пешком.
Человек начала XXI века получил уникальный опыт почти средневекового бытия безлошадного горожанина, чей кругозор ограничен небольшим пятачком городской среды, примыкающей к дому, ближайшему храму и рыночной площади.
Однако это отнюдь не означает, что мир соседства стал ближе и роднее. Говоря об утопических проектах содружества жильцов многоквартирных построек, в частности, послевоенного проекта Марсельского дома Ле Корбюзье, С. Батракова отмечала идеалистичность и нереализуемость: «Предполагалось, что все жители марсельского дома будут связаны постоянными и прочными узами. Им предстояло встречаться в кафе и на торговой улице, вместе гулять, загорать, заниматься спортом, разыгрывать любительские спектакли. <���…> но мечта о гармоничном образе жизни продолжала оставаться только мечтой… Торговая улица пустовала, магазины оказались нерентабельными, предприятия бытовых услуг закрывались. Обитатели дома не обнаруживали никакого желания налаживать друг с другом контакты и вообще жить как-то иначе, чем раньше» [9]. Удивительно, с какой регулярностью творческая мысль философов и художников создает утопические проекты общежития единым домом, единым кварталом, единой улицей, – а реальность отвергает возможности, кажущиеся такими реализуемыми. В период карантина еще раз была перечеркнута перспектива перенесения акцента из большого мира урбанистического центра, из мест скопления людей для работы и развлечения в мир местных, районных, квартальных «малых радостей», камерного общения. Теперь уже не только в силу отсутствия духовного родства тех, кто рядом «по месту жительства», а по причинам медицинского характера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: