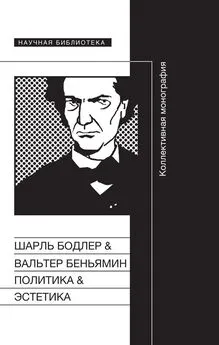Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Название:Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005131270
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография краткое содержание
Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Показательно, что вообще катастрофическому началу в культуре и художественном творчестве все чаще посвящаются научные труды. У науки каждого времени – свои «любимые» катастрофы. Еще недавно в центре ключевых трудов был феномен исторического слома эпох, своего рода общественные катастрофы. Взрывной характер кризисных проявлений в отечественной культуре, в том числе в искусстве, уже подвергался глубокому анализу, в частности, в книге Ю. Лотмана «Культура и взрыв» [15], а также в ряде коллективных трудов постсоветской культурологии и философии. В частности, в 2003 году вышел весьма знаменательный сборник «Переходные процессы в русской художественной культуре» [16], в котором И. Кондаков писал об амбивалентности Смутного времени, сыгравшем «исключительно важную роль в переходе русской культуры к Новому времени, причем не вопреки, а благодаря драматическим и катастрофическим событиям, потрясавшим Русское государство и подводившим его на край гибели. Впрочем, „смутные времена“ на Руси лишь субъективно казались предвестьем гибели. На деле же все, что происходило в переходные периоды русской истории, было далеко… не только катастрофичным. Одновременно с разрушением старого шло созидание нового, еще не осознаваемого в этом качестве» [17]. Эта формулировка применима и к позднейшим кризисным периодам, будь то годы революции или крушение советского уклада. (Когда-нибудь и о нынешнем периоде пандемии напишут нечто подобное, с исторической дистанции будет очевиднее полезная составляющая этого события).
Как правило, исторический катастрофизм – это процессуальный катастрофизм , часто скрытый, во всяком случае, неочевидный напрямую, проявляемый отнюдь не обязательно, или не только в каких-то конкретных материальных разрушениях, насилии, гибели каких-либо существ. Можно говорить о том, что в большом серьезном искусстве нередко существует огромный зазор между глубинной сущностью отображаемых социокультурных процессов – и их внешним выражением, их зримыми проявлениями, связанными с жизнью ограниченного количества персонажей. Такова, к примеру, модель катастрофы в «Вишневом саде» А. Чехова. Крупным планом показана малая часть глобальных деструктивных процессов, продвигающих Россию в направлении тотального исторического кризиса 1910-х годов, но носящих подчеркнуто обыденные, внешне неброские формы распада устоявшейся жизни в одном имении, в одном небольшом, сугубо приватном человеческом сообществе.
Постидеологическая эпоха рубежа XX—XXI веков побудила искусство и гуманитарную науку обратить внимание на ряд катастроф, происходящих в первую очередь в жизни природы, экосреды, климата [18], и параллельно исследовать катастрофы и апокалиптические ситуации как архетипические модели, как проявление антиутопизма, актуального в современном искусстве. В известной мере данная тематика определяет лицо современной науки в России и за рубежом [19].
В своей диссертации «Проявление «Не-Я-Концепции» и переживание катастрофы в европейских художественных практиках XV – XX веков» (защищавшейся в июне 2020 года, в разгар пандемии) Г. Консон справедливо связывает катастрофизм с внутренним состоянием личности, в Новое время особенно явственно выраженным в искусстве эпохи романтизма. Принципиальным представляется и вывод ученого о том, что «трансмиссионно-позитивный смысл авторской рефлексии на катастрофическое в жизни… в конечном счете служит укреплению защитного пояса культуры: ноосферы (разума) и пневматосферы (духа)» [20], что косвенно обосновывает бурную популяризацию мотивов катастрофизма во многих видах искусства ХХ-XXI веков.
Не менее существенно то, что современная гуманитарная наука осознает всю условность деления на элитарное и массовое, на серьезное искусство и популярное, отмечая значимость внешне несерьезных произведений, в особенности экранных, в дискуссионном пространстве, обращенном к перспективам развития человечества и рисующем возможные сценарии будущего. К. Разлогов уже описывал свою «аберрацию» при знакомстве с передовыми научными идеями на масштабной международной конференции: «у меня возникло ощущение, что я слышу аннотации голливудских боевиков последнего времени, потому что фантастические допущения и разного рода безумные идеи, которые посещали сценаристов в самом широком жанровом диапазоне… оказались удивительно созвучны новейшим поискам ученых. Более того, они иногда даже предшествовали им» [21]. Тут, конечно, дело обстоит несколько более противоречиво, поскольку голливудские сценаристы и режиссеры нередко активно сотрудничают с самыми передовыми научными учреждениями, получают у них серьезные консультации, так что можно говорить о сотрудничестве художников и ученых в создании искусства. А фильмы, по сути, становятся визуальным полигоном для обкатки новейших научно-технических идей. Так, Д. Кирби рассказывает о трехлетнем периоде консультаций с учеными С. Кубрика, снимавшего «2001: космическую Одиссею» ( 2001: A Space Odyssey , реж. С. Кубрик, 1968) и руководствовавшегося научными выкладками, так что «по-настоящему фантастичен в фильме лишь черный монолит» [22].
Как следует из недавних исследований об интерпретации кризиса экосреды в кинематографе, современные фантастические жанры существуют одновременно в художественном и в научном контексте [23]. Кинематографисты держат руку на пульсе новейших концепций развития человечества и вариантов бытия цивилизации в будущем. Некоторые, вроде бы чисто развлекательные научно-фантастические фильмы, тем не менее, кажутся иллюстрацией к лекционному курсу по экологии. Так или иначе научные прогнозы находят свои отражения в игровых жанрах кино. «…Междисциплинарное взаимодействие в современной культуре осуществляется не только в традиционных научных формах (семинары, симпозиумы, специализированные журналы и т.д.), но и в пространстве массовой культуры, которая по структуре своей близка к виртуальному мегаполису <���…> Новые научные идеи преломляются сквозь призму научно-популярных фильмов и изданий, массовых журналов, телевизионных и радиопередач, да и повседневного общения, перерабатывающего передовые научные гипотезы в удобоваримую для всех (в том числе и деятелей культуры) форму реальных или вымышленных сюжетных коллизий…», – писал К. Разлогов [24]. В данной же книге о проблемах взаимодействия гуманитарной науки и биологии размышляет И. Кондаков.
Мы исходим из многомерности искусства, неиерархического строения медиасреды и уникально высокой значимости художественного творчества, интегрированного в глобальные социальные процессы и находящегося в диалоге как с научными изысканиями, так и с законами бытия органической материи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: