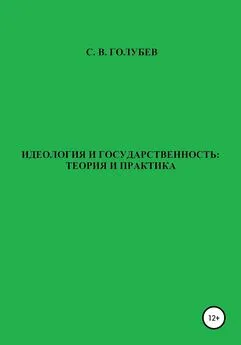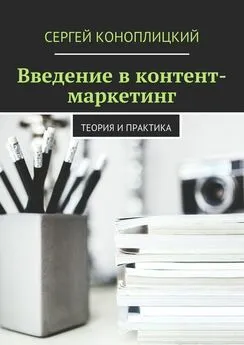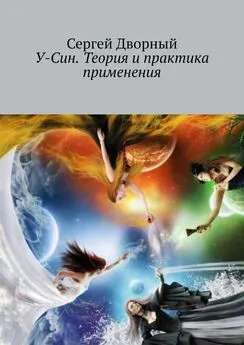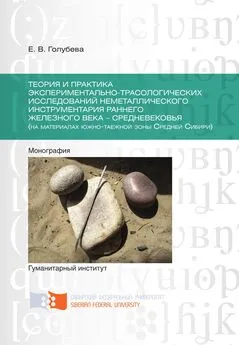Сергей Голубев - Идеология и государственность: теория и практика
- Название:Идеология и государственность: теория и практика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голубев - Идеология и государственность: теория и практика краткое содержание
Идеология и государственность: теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Платон, однако, считает, что искусство, «мусическое воспитание» граждан, имеет самое непосредственное отношение к устроению государства, «истинного законодательства». Дело в том, что музыка, пение, пляски и, в особенности, хороводы являются наилучшим средством для воспитания у людей «чувства гармонии и ритма, которые даны нам богами», иначе говоря, чувства порядка и способности испытывать удовольствие от него, что свойственно людям в отличие от животных, «кроме человека,– пишет Платон, – ни одно из остальных живых существ не обладает чувством порядка в телодвижениях и звуках. Порядок в движении носит название ритма, порядок в звуках носит имя гармонии» 36 36 Там же. С.114.
. Смысл «мусического воспитания», таким образом, в развитии у индивида способности ощущать себя частью целого,, осознавать свою включенность в общую гармонию Космоса. Поэтому в хороводах и недопустимы «безобразные телодвижения». И вообще: «Никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными песнями «…» Этого надо остерегаться больше, чем нарушения любого другого закона» 37 37 Там же. С.251.
. В целом, платоновский подход, к регламентации «мусического искусства» принципиально схож с мерами, которые принимались советским государством в период 30-х – 60-х годов 20 века. Это и практический запрет джазовой музыки и рок-н-ролла, и соответствующих танцев, и борьба с «абстракционизмом» и кампании против «стиляг». Всё это тогда было всерьез, и воспринималось как борьба на «культурном фронте». В те годы, в СССР, прямо по Платону, считалось, что искусство должно не только и не столько развлекать, сколько воспитывать «публику». И сегодня, с высоты пережитого исторического опыта крушения государственности, многие ли возьмутся утверждать, что опасения тогдашних «совпартработников» по поводу «современного искусства» были только комичны и совершенно беспочвенны?
Что же касается Платона, то он вполне определенно настаивал на существовании прямой причинно-следственной связи между «невежественными беззакониями поэтов в области Муз» и «подрывом» государственных устоев. Когда, пишет Платон, поэты «внушили большинству беззаконное отношение к мусическому искусству и дерзкое самомнение «…», вместо господства лучших в театрах воцарилась какая-то непристойная власть зрителей», и далее: «с мусического искусства началось у нас всеобщее мудрствование и беззаконие, а за этим последовала свобода «…», за этой свободой последовало нежелание подчиняться правителям, а, в конце концов, появилось стремление не слушаться и законов» 38 38 Там же. С.152,153.
.
Сторонники экономического, технологического и прочих «детерминизмов», бесчисленные защитники «свободы творчества» могут, конечно, не соглашаться с этим платоновским «мнением», оценивать его как ненаучное или подвергать «моральной» критике. Существо дела, однако, заключается в том, что это «мнение» не хуже означенных «детерминизмов» согласуется с фактами, с современной, общественно-политической практикой в том числе, и не только бывшего СССР, но и многих других государств. И речь, в данном контексте, может идти не только о «социалистических экспериментах» вроде «культурной революции» в Китае или уничтожении «буржуазной культуры» в Кампучии, но, и, скажем о странах исламского мира, Иране, например.
Стоит сказать, пожалуй, особенно в свете известных новаций в брачном законодательстве Западных стран в последние годы и об отношении Платона к гомосексуализму. «Мужчины, – считает он, – не должны сходиться с юношами как с женщинами, так как это противоречит природе». И далее, слова, над которыми стоит, наверное, лишний раз задуматься: «И разве любой не подвергнет порицанию того человека, который решается на подражание образу женщины? Кто же из людей решится все это возвести в закон? Решительно никто, по крайней мере, из тех, кто помышляет об истинном законе» 39 39 Там же. С.289.
.
Кто-то эти суждения Платона наверняка назовет «устаревшими», а то и «реакционными», может быть даже «аморальными». Кто-то укажет на ошибочность его «прогнозов», – ведь нашлись же сегодня в «цивилизованном мире» люди, которые «решились» «все это возвести в закон». Что же, разве их «помышления» не истинны, не чисты? На этот счет, очевидно, могут быть разные мнения. Несомненно (и весьма показательно) другое. То, что современные законодатели считают этот вопрос одним из важнейших в своем законотворчестве, объявляют его едва ли не одним из основных критериев «правильности» государственного устройства. А это, в свою очередь, говорит, если угодно «от противного», о том, что платоновский подход, в частности его внимание к регламентации брачных отношений, сохраняет свою практическую значимость, более того, обретает актуальность, оказываясь в центре современных идеологических дискуссий и законотворческой практики.
Таким образом, конкретное рассмотрение платоновского проекта построения возможно более совершенного полиса, разработки его законодательства, не дает достаточных оснований для однозначной характеристики этого проекта как «устаревшего», нереалистичного или, тем более, «утопического». Напротив, реальная практика государственного строительства, в том числе, и современных государств, вполне основательно подтверждает рациональность и обоснованность многих заявленных в «Законах» положений.
Необходимо сказать также и о том, что этот труд имел немаловажное значение для дальнейшего развития древнегреческой социально-политической мысли, прежде всего, в лице Аристотеля. Для него политическое «завещание» учителя стало, своего рода, краеугольным камнем, «точкой опоры» и «точкой отсчета» для построения собственной социально-политической теории. Принципиально, идеологически , в своей «Политике», Аристотель – продолжатель Платона, учения обоих мыслителей в своих концептуально-теоретических основаниях опираются на одни и те же базисные положения. И цель, которую ставит перед собой Аристотель, по сути, та же, что и в платоновском «Государстве»: понятийная реконструкция образцового государственного устройства. Как верно пишет, А. И. Доватур: «Теоретическое построение идеального полиса – конечная задача, которую ставит перед собой Аристотель в «Политике» 40 40 А. И. Доватур. Политика Аристотеля// Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983.С. 38.
.
В то же время, внимание исследователей, зачастую, даже, едва ли не как правило, обращено на различия между политическими теориями Платона и Аристотеля. И, действительно, Аристотель далеко не во всем соглашался с Платоном, критиковал многие конкретные положения, сформулированные в «Государстве» и «Законах». Но эта критика, всегда была критикой средств, а не принципов. Принципиально же, идейно , в понимании происхождении сущности государства и человека, ученик и учитель не расходились, и их политические учения принадлежат к одной, выражаясь современным языком, политической идеологии , что убедительно подтверждает текстуальный анализ «Политики». Содержательно, первые два раздела первой книги этого труда, в которых излагаются исходные концептуально-теоретические положения, своего рода постулаты, предваряющие дальнейшее исследование, посвящены изложению-раскрытию именно тех принципов понимания государственности, взаимосвязи государства и человека, которые ранее были провозглашены и, в систематической форме обоснованы, Платоном. Буквально на первых страницах трактата говорится и о необходимости ценностного основания государственности, и о естественном характере разделения на властвующих и подвластных; утверждается несамодостаточность индивида и необходимость государственной формы организации общественной жизни. Уже в первом предложении «Политики» государство определяется вполне по-платоновски, как «общение, которое… стремится к высшему из всех благ» 41 41 Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983. С. 376.
. И далее, в ходе изложения Аристотель даёт предельно чёткую формулировку: «Государственным благом является справедливость» 42 42 Там же. С. 467.
Важнейшая причина существования государства, подлинное основание государственности как таковой, заключается, по Аристотелю, в стремлении людей к собственно человеческой, а не животной жизни, в способности и необходимости (!) для них различать такие понятия как добро и зло, справедливость и несправедливость, в их стремлении к добродетели, вообще, к высшему благу. В этом тезисе, – главная мысль «Политики», красной нитью проходящая через весь труд. Человек, в отличие от животных, потому и является политическим существом (заметим, не «животным», как часто сегодня пишут-«переводят» в учебниках и учёных трудах, внося ненужные, да и, попросту невозможные для миропонимания Аристотеля, который, конечно же, не был «дарвинистом», коннотации), что делающая его человеком способность к восприятию добра и зла и других нравственных категорий, может быть реализована только в государственной, полисной форме, общежития. Уже само понятие справедливости, убеждён Аристотель, предполагает наличие государства, так как право служащее ее мерилом является регулятором именно политического общения.
Интервал:
Закладка: