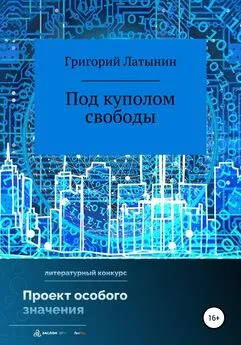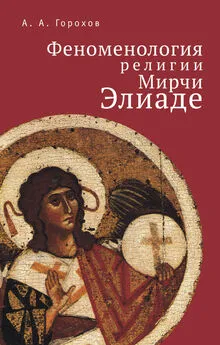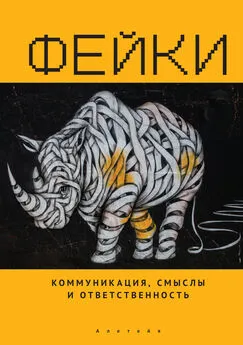Григорий Тульчинский - Феноменология зла и метафизика свободы
- Название:Феноменология зла и метафизика свободы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906980-76-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Тульчинский - Феноменология зла и метафизика свободы краткое содержание
Феноменология зла и метафизика свободы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Садизм – не столько культ насилия, сколько культ власти, ничем не ограниченной воли – основания и предпосылки насилия. Маркиз де Сад, в определенном смысле является продуктом феодальных отношений, акцентуированных не экономически, а властно. Не случайно мировоззрение маркиза де Сада – столь большевистко-ленинское по своему духу. Та же необходимость в тайных обществах «нового типа» по ту сторону добра и зла. Задачей этих обществ является не только противопоставление «избранных» посвященных – профанам, но и гарантии друг от друга самим суперменам (либертенам).
Показательно, что сами либертены не отличают страдание от наслаждения, успех от неудачи, в том числе и прежде всего – собственные. «Я хочу, чтобы ты причинил мне самое великое в мире зло, совершил надо мною самое чудовищное, немыслимое преступление», – просит одна из героинь де Сада. Либертинаж как суверенитет единственного вполне соответствует категорическому императиву Канта.
Это вполне торжество зла власти и власти зла. Ведь добродетель приметна слабостью, точнее – беззащитностью перед злом, а порок – своей силой – даже в ущерб собственной жизни. Собственная смерть оказывается счастьем, поскольку является торжеством зла. Тем самым либертен становится недоступным для других. Никто не может нанести ему ущерб. Никто и ничто не может лишить его власти быть собой и наслаждаться этой властью. Это не мазохизм (как удовлетворение от унижения) и не садомазохистский комплекс (как взаимодополнительность садизма и мазохизма). Это крайнее проявление именно садизма: унижение как торжество и господство.
Не уподобляется ли либертен гению – творцу? Или святому? Более того, Страх Божий, существенно определяющий природу религиозного чувства, – разве не является он страхом (=торжеством) абсолютной власти Творца? Разве Божественное не есть отрицание человека и морали? Разве сакральное – не ужасно по самой своей природе? Жертвоприношения, поведение богов на Олимпе – разве все это не преступно с точки зрения человеческой? Разве не лежит в основе любого сакрального чудовищное преступление, безвинное распятие – например? Обыденная профанная сфера – сфера нормативно упорядоченной жизни. Сфера сакральная – сфера анормативная (с точки зрения профанной), сфера своеобразного беспредела, недоступного разумению обычной морали. И чем чудовищнее будет преступление, тем больше у него шансов приобрести сакральную ауру. Можно утверждать, что волюнтарная анормативность (вплоть до преступления и человекоубийства) есть необходимое условие задания профанного порядка и нормативности в культуре. В этом – один из многих парадоксов культуры, в которую оказывается встроен взгляд на нее саму извне. Наряду с сакральным это и смех и творчество. Основой и предпосылкой конструктивного утверждения во всех этих случаях оказывается девиация, нарушение и отрицание.
Но о ловушках абстрактного рационализма – позже. А сейчас надо бы перевести дух от рационалистического зазеркалья самозванства.
Но ведь в живой жизни все намного проще, без этого рефлексивного морока. Как писал великий философ обыденного В. В. Розанов во втором коробе своих «Опавших листьев»:
«Любить – значит, “не могу без тебя жить”, ”мне тяжело без тебя”, ”везде скучно, где не ты”.
Это внешнее описание, но самое точное.
Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без нее – нет дыхания, а при ней ”дышится легко”.
Вот и все».
Невменяемые, безумные страсти любви – невменяемое безумие самозванства, мечущегося в пустом, безликом, бесчеловечном (буквально – без людей) man – пола-рода ли, абстрактного сверхчеловека ли – какая, собственно, разница. Нормальная же, человеческая любовь людей тиха и не ничтожит бытие, а крепит его заодно с бытом.
Ну а как же мистика ничто, последнего предела – действительно, морок рефлексивного разума, наваждение, кабинетная профессорская дурь? Или нечто реальное. Если реальное, то значит – созидательно утверждающее.
Б. П. Вышеславцев, например, увидел ничто в самом сердце, понимаемом как сокровенный центр личности, ее сердцевина, даже не ядро, а исходная точка и импульс. Ценность аналитики и философствования Б. П. Вышеславцева в том, что он сопоставляет и стягивает смысловую ткань еврохристианского и восточного понимания конституирующего основания, последнего предела человеческого сознания и личности.
Индийская мистика строится на принципе «Атман есть Брахман», то есть на имманентном тождестве предельного центра человеческой самости с предельным центром божественной самости. «Не то, что я нахожу в себе Бога, соприкасаясь с Богом в глубине своего сердца – а то, что я сам оказываюсь Богом! Сам – конечно, не в смысле эмпирической личности… а в смысле иррационального центра моего Я. Этот мой центр тождествен, совпадает с божественным центром. На этой высоте умозрения человеческое Я совпадает до неразличимости с божественным центром Я». Осознание своего единства с центром бытия, обнаружение в себе Бога живого и сопричастности ему – феноменологическая основа любого религиозного опыта. И не только религиозного. Опубликованная в «Логосе» серия статей В. А. Карпунина, работа С. Жемайтиса убедительно свидетельствуют о фундаментальности точки отсчета самосознания личности, каковой выступает осознание и переживание интимного единства личности и бытия, совпадающих в некоей предельной точке, где Абсолют перетекает в Я и наоборот.
Но тождество типа «Атман есть Брахман» может быть истолковано двояко, с «онтологическим центром тяжести» на первом или втором члене тождества. Либо как растворение высшего человеческого Я в Боге – и тогда нет человека: как капля воды, как крупица соли он без остатка растворен в океане. Есть только Бог-Брахман. Собственно именно такова в индийском духовном опыте пантеистическая система Веданты. Либо мое Я есть высшая и последняя реальность – такова атеистическая система Санкхьи. Другие учения как бы колеблются между этими двумя крайними полюсами. Например, буддизм – в толковании нирваны – либо как атеистического угасания сознания, либо как пантеистическое растворение в абсолютном. Не случайно сам Будда мудро запретил ученикам углубляться в эту проблему.
Но в обоих этих крайностях тождество устанавливается полное: безличное и безразличное. Индийской мистике тождества Я и Абсолюта Б. П. Вышеславцев противопоставлял христианскую мистику – совершенно особую сопричастность сердечной глубины с Богом, основанную на отношениях Богочеловечности и Богосыновства, не на безразличном абстрактном тождестве, а на любви как гармонии противоположностей. «… Сердце в индийской мистике… имеет другое значение: оно означает только внутренний мир, скрытую центральность, сердцевинность атмана по отношению к владельцу, но без всякой эмоциональной, эротической, эстетической окраски, которая неизбежна в христианском сердце, которая преображается в своем пределе не в тождество унисона, а в гармонию напряженно противостоящих и сопряженных струн».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
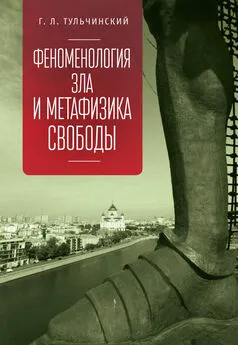
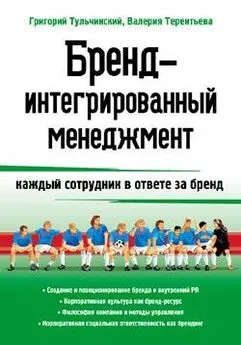
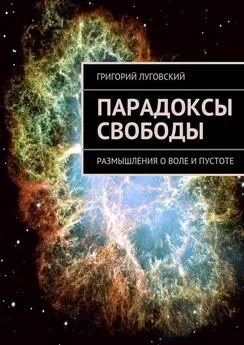
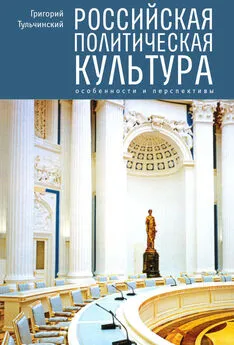
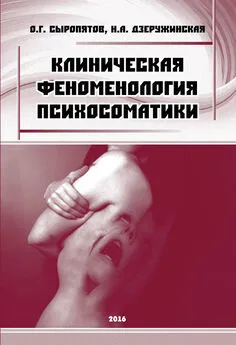
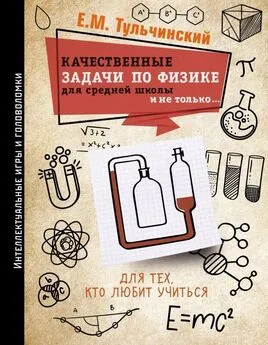
![Григорий Тульчинский - Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность [litres]](/books/1150687/grigorij-tulchinskij-fejki-kommunikaciya-smysly.webp)