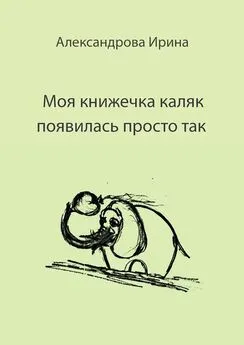Ален де Бенуа - Как можно быть язычником
- Название:Как можно быть язычником
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская Правда
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ален де Бенуа - Как можно быть язычником краткое содержание
Это первое крупное произведение знаменитого французского философа, выпущенное в России на русском языке. В этой книге автор убедительно доказывает, что язычество — это не только далекое прошлое человечества, но и, в новой форме, наше неотвратимое будущее. Для широкого круга читателей.
Как можно быть язычником - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет ничего удивительного, таким образом, в том, что некоторые фрейдомарксисты истолковывали постоянный шаббат, которым станет «общество» после конца времен, как убедительный символ осуществимой утопии. «Шаббат представляет прообраз времен, когда более не будет борьбы классов», — пишут Джози Айзенберг и Арман Абекасси (A Bible ouverte, op. cit., p. 188). Фромм же доходит до того, что предлагает «установить шаббат как всеобщий день мира и гармонии, как человеческий день, предвещающий человеческое будущее» («Иметь или быть?»). Итак, шаббат воспринимается как знак того, что невозможно осуществить сегодня, но что обязательно возникнет «однажды»: мира, в котором больше не будет «несправедливостей», столкновений, определений, причин. Будущее повелительное наклонение внутри нашего настоящего изъявительного.
«Соблазн отвергнуть историю испытывают цивилизации, порождённые иудео-христианством», — признаёт Пьер Шоню (Histoire et foi, France-Empire, 1980). В еврейском языке даже не существует слова для обозначения «истории». Наиболее часто использующееся слово, toledot, означает скорее «генеалогия, происхождение»; оно подразумевает по сути своей повторяющуюся хронологию. [37]История в Библии является воспроизведением в двух смыслах этого слова: она не знает ничего абсолютно нового, она есть лишь долгая подготовка к «родам», которые будут означать её окончание. Единственными «решающими событиями», происходящими в ней, являются события, связанные с учреждением единобожия или осуществлением божественного замысла: Адам, Авраам, Моисей, Давид и Мессия вводят подобные разрывы. Но по сути дела единственный подлинно великий разрыв предшествует истории. Итак, мы имеем два прочтения, определяющих две кривые. В Библии: история как повторение начиная с фундаментальной цезуры, создающейся вмешательством Яхве. В язычестве: собственно человеческая история, отводящая максимальную роль любым нововведениям, осуществляющимся творческой способностью человека, но в то же время очевидная преемственность наследия, находящая своё современное выражение в словах Ницше: «Спасти прошлое в человеке и преобразовать всё, что «было» » («Так говорил Заратустра»). Таким образом, иудео-христианское единобожие концептуализирует, концептуально изолирует понятие истории (которое древние реализовывали конкретным образом, но которое они не осознавали в его единстве) только лишь для того, чтобы заключить его в пределы, определяющие его цель. Яхве признаёт историю только как историю-чтобы-с-ней-покончить. Он принимает историю человека только для того, чтобы привести её к её упразднению. Он представляет её идею только для того, чтобы лучше подготовить её гибель.
§ 12
Мессия — это еврейское слово (машиах), означающее «помазанный». На греческий это слово было переведено как (…), «Христос», при этом не обошлось без лёгкого изменения смысла (в действительности речь идёт об историческом термине, а не имени собственном или собственно богословском определении). С точки зрения Библии Мессия в целом считается человеком, чьё «пришествие» должно ознаменовать начало мессианских времен. При этом иногда подобное качество приписывается всему народу Израиля. Это второе представление традиционно одерживает победу над первым в тех случаях, когда необходимо опровергнуть мессианизм «обманщика», (например, с точки зрения иудаизма, Иисуса; см. об этом у Левинаса). С другой стороны, ортодоксальный иудаизм склонен, как правило, связывать мессианскую эру с пришествием мессии-человека, в то время как реформаторский иудаизм придаёт большее значение наступлению самих мессианских времён.
Известно, сколько усилий приложило христианство для того, чтобы показать, что мессианские пророчества относились к Иисусу. Отцы Церкви проявили особое рвение в этом деле, продолженном Фомой Аквинским и Боссе. «Величайшим из доказательств Иисуса Христа, — говорит Паскаль, — являются пророчества». (Подобные труды были с новой силой возобновлены в прошлом веке в ответ на рационализм и немецкий идеализм). В конце своего Евангелия Иоанн уточняет, что он написал его для того, чтобы люди верили, «что Иисус есть Христос» (20, 31), то есть Мессия. При всём при том, когда мы обращаемся к самим Евангелиям, то видим, что за исключением отрывка в самом позднем из них, а именно в Евангелии от Иоанна (4, 25–26), Иисус почти никогда сам не называет себя Христом или Мессией. Как замечает Чарльз Гарольд Додд (Le fondateur du christianisme, Seuil, 1980, p. 106), создаётся даже впечатление, что он «противодействует попыткам присвоить ему это имя». Всего лишь два эпизода, в которых он, как кажется, соглашается с этим именем, — в разговоре со своими учениками (Map. 8, 27–30) и во время допроса (Мат. 26, 63–64) — являются крайне неопределёнными.
В Ветхом Завете мессианская проблематика прямо связана с понятием «избрания». Последнее является отнюдь не превосходством, но особенностью. Со времени Исхода Израиль является отдельным, избранным народом. Моисей, [38]взывая к мощи Яхве, создаёт одновременно религию и «национальность» евреев, чьи колена он связывает культом единого божества. Таким образом, своей самобытностью Израиль обязан Яхве. Посредством Завета Яхве не только «избирает» свой народ, но и создаёт его как народ. Это ещё раз говорит о том, что Израиль существует как народ только тогда, когда он признает Яхве своим Богом. А то, что верно по отношению к народу, верно и по отношению к Земле, потому что Тора может быть полностью соблюдена только в Эрец Исроэль, — и, наоборот, Эрец Исроэль имеет «смысл» только в том случае, если в нём соблюдается Тора. Отсюда особенность земли, подобная особенности народа. Отсюда же, как показывает Александр Сафран (Isral dans le temps et dans l'espace, Payot, 1980), тот факт, что четыре элемента иудаизма — Яхве, Тора, Эрец Исроэль и народ Израиля — могут иногда диалектически пониматься как взаимозаменяемые.
Посредством своего «помазания» и посредством Завета Яхве «выбирает» некоторых из людей. Он даёт им мессианское поручение: вмешиваться в историю, чтобы приближать её к завершению изнутри, что является единственным средством избавлять «постепенно людей… от людской греховности» (Josy Eisenberg et Armand Abecassis, Moi, le gardien de mon frere? A Bible ouverte, III, op. cit., p. 255). Вследствие этого народ, к которому принадлежат эти люди, наделяется определённой ответственностью по отношению к миру в целом. Он чувствует себя, он узнаёт себя, он живёт так, как будто бы он сам являлся мессией для мира, то есть помазанным народом, отдельным народом, призванным установить Божий порядок на земле» (Jacques Ellul, Messie et messianisme, in Sens, Janvier 1979). Яхве заявляет: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19, 6). Если народ Израиля соглашается таким образом с риском считаться «народом-парией» (Max Weber, Die Entstehung des juedischen Pariavolkes, inGesammelte Aufsaetze zur Religionssoziologie, vol. 3, pp, 370–400; и Le judaisme antique, Plon, 1970), если он соглашается стать согласно воле Бога «иероэтносом», то делает это для того, чтобы «сохранить своё избрание народом-священником» (Lon Rosen, Les Nouveaux Cahiers, printemps 1979).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
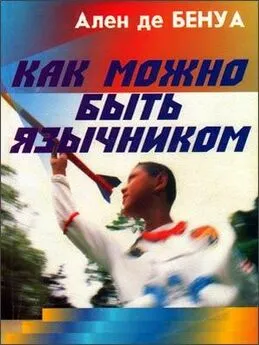




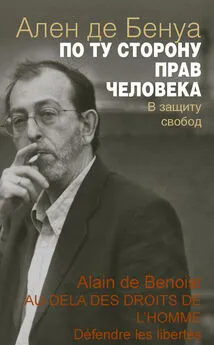


![Пьер Бенуа - Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро [компиляция]](/books/1088284/per-benua-atlantida-zabytyj-prokazhennyj-korol.webp)