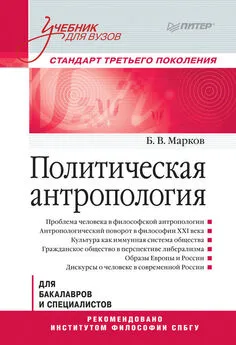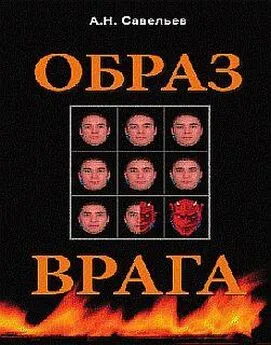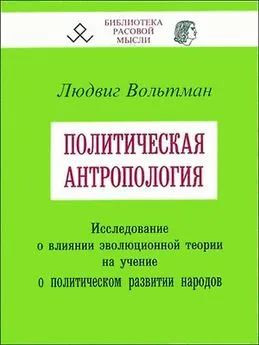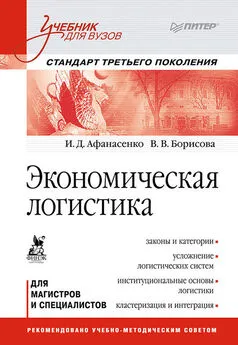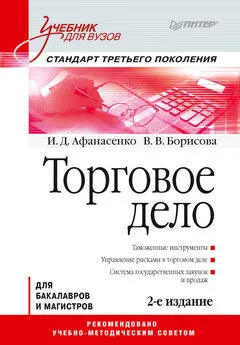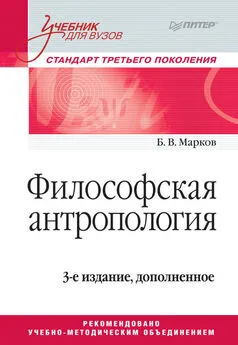Борис Марков - Политическая антропология. Учебник для вузов
- Название:Политическая антропология. Учебник для вузов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-496-02537-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Марков - Политическая антропология. Учебник для вузов краткое содержание
В книге рассматриваются такие вопросы, как государство и человек, сакральная антропология, практики политического воспитания, гражданское общество в перспективе либерализма, культура как иммунная система общества, образы Европы и России, статус чужого (ксенофобия и ксенофилия) и многие другие.
Сегодня создается искусственная окружающая среда, которая формирует человеческие качества. Изучению ее антропогенных последствий и посвящена данная книга, предлагаемая политологам, философам, культурологам, экономистам, психологам, социологам и всем читателям, интересующимся положением человека в современном мире.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Политическая антропология. Учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Средневековое понимание политического складывается как синтез феодального служения, религии, экономики, сельской общины и городского права. Ключевым примером является борьба папы и императора, а также образ политического тела, раскрывающего особенности иерархического общества, в котором люди были связаны как звенья единой цепи.
Возникновение национальных государств по-новому задает понятие политического. На первый план выходит проблема суверенитета или самодержавия. Король, как и император, конечно, не обожествлялся, но коронация предполагала божественное благословление. Правитель мыслился как заместитель Бога на земле. В свою очередь в небесной иерархии бог занимал пост главы мира. В эпоху Просвещения правитель считался представителем народа и защитником закона. Секуляризация не слишком сильно повлияла на трансформацию политического. Поскольку в деизме бог мыслится как мастер при машине, постольку в эпоху абсолютизма суверен моделировался по теологическому образцу. Важную роль играли визуальные технологии, репрезентации власти в форме пышных церемоний. Европейские дворы соревнуются по части роскоши, строятся дворцы и резиденции с красивыми фасадами и интерьерами, разбиваются садово-парковые комплексы, изготовляются ювелирные украшения, шьются парадные одежды и т. д. Обращения к вышестоящим включают определения явно медиального характера, отсылающие к сиянию корон, пурпуру или белизне мантий, великолепию дворцов и иных знаков власти: «сиятельство», «превосходительство», «преосвященство», «благородие». Здесь четко соблюдается иерархия, которая основана на этосе чести и достоинства, но этот унаследованный от рыцарства этос трансформируется под воздействием все более сложных внеличностных отношений придворного общества. Эпоха Просвещения характеризуется противопоставлением общества и государства. По мере роста третьего сословия возникает новое понятие политического, характеризующее парламентскую демократию. Либеральная буржуазия – это дискутирующее сословие, надеющееся решить все проблемы путем переговоров.
В начале XX в. высказывались различные мнения о государстве. Юристы считали, что оно выше общества, и связывали его с правом. Писатели-романтики полагали, что в его основе лежит братство или товарищество. Либералы и анархисты, наоборот, считали, что в основе государства лежит власть как господство. По мнению К. Шмитта, как в основе морали лежит различие добра и зла, так и в основе политического содержится базовое различие друга и врага. «Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения». [1] Шмитт К. Понятие политического. – СПб., 2016. – С. 302.
Политическое определение друга и врага дистанцируется от морально-психологических характеристик. Враг – это не экономический конкурент и не духовный оппонент. Такие слова, как «государство», «общество», «класс», «суверенитет» и др., остаются пустыми абстракциями, если неизвестно, кто конкретно является противником. Даже в партийной политике, где идет возня за портфели, хотя и в дегенеративной форме, действует первичное различие своих и чужих. Таким образом, борьба есть реальное условие политики. Война – это вооруженная борьба, крайняя степень вражды. Призыв «Возлюбите врагов ваших» не подразумевает внешнего врага, не призывает предавать свою страну, сдать ее исламу. Вместе с тем войну по экономическим, религиозным и иным мотивам Шмитт считал лишенной смысла. Он отстаивал идею суверенитета, критиковал синдикализм и плюрализм, возникший на руинах абсолютистского государства. Хотя политическое не выводимо из религиозного, экономического, морального, противоположности, возникающие на их основе, могут стать политическими, если разделяют людей на друзей и врагов. Если религиозное сообщество ведет войну с другим религиозным сообществом, оно становится политическим сообществом. То же самое относится к экономическим концернам, профсоюзам и классам. Если класс борется с другим классом, то он становится политическим. Так сложилась противоположность пролетариев и капиталистов.
Насколько верно определение политического на основе различения друзей и врагов и является ли оно актуальным сегодня? Конечно, любой человек, хозяйственная или политическая единица – это нечто отдельное, по отношению к которому внешнее представляется чуждым. Но надо иметь в виду, что окружающая среда является условием существования, отсюда необходимо учитывать отношения обмена и кооперации. Кроме того, ритуальные войны, как и деревенские драки, не связаны с различием друзей и врагов в абсолютном смысле. Парни соседних деревень дрались по праздникам потому, что так было принято. Такие агональные побоища время от времени случаются и между соседними государствами. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но такова, как бы сказал И. Кант, неизъяснимая хитрость природы, которая, как он полагал, приводит к миру через конфликты.
В мирное время каждый человек озабочен собственными делами, он входит в различные организации, которые обязывают выполнять те или иные роли. Отсюда главной проблемой становится координация. Например, как совместить членство в партии и посещение церкви или служебные функции с требованиями морали? Современное государство уже не является ни общей личностью, ни всесильной машиной, превращающей людей в свои винтики и шестерни. И тем не менее в критических ситуациях именно государство, а не профсоюз, может мобилизовать население. Оно не является простой ассоциацией наряду с религиозными, экономическими, профессиональными союзами. Оно не является ни ночным сторожем, ни особым видом общества и не федеративным союзом. Либерализм утрачивает понятие политического, суть которого консерваторы видят в различии друзей и врагов. Если в нормальной ситуации задача государства состоит в том, чтобы обеспечить мир и спокойствие внутри страны, то в чрезвычайной ситуации оно объявляет войну. Гражданская война начинается без всякого объявления, ее причиной является как раз кризис государства, распад политического единства. Внешняя война может быть как захватнической, так и оборонительной. Те, кто нападают, могут руководствоваться религиозными, экономическими или моральными (нарушение прав человека) мотивами. Это, конечно, никак не оправданно, ибо бессмысленно и бесчеловечно посылать людей воевать за чуждые им интересы. Другое дело, когда враг не выдумывается по каким-то экономическим или иным причинам, а реально вторгается в святая святых каждого человека, в его страну и дом. Война в этом случае становится экзистенциальной. Она может быть оправдана в случае угрозы существования. Только подвергшийся нападению народ может определить, кто враг, и решиться бороться с ним.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: