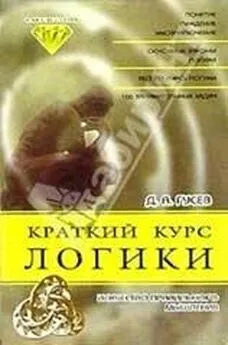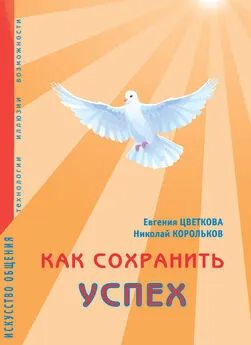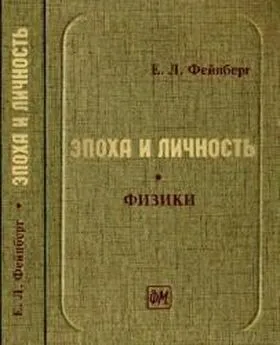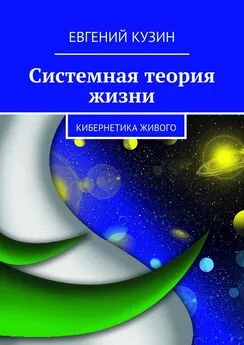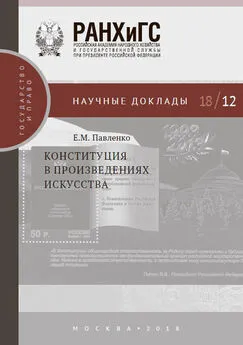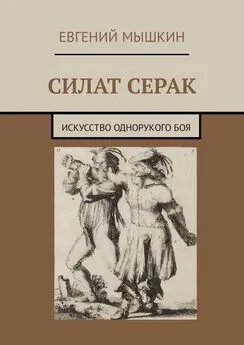Евгений Фейнберг - Кибернетика, Логика, Искусство
- Название:Кибернетика, Логика, Искусство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Фейнберг - Кибернетика, Логика, Искусство краткое содержание
Кибернетика, Логика, Искусство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В обычном противопоставлении художника ученому можно подметить еще одну, так сказать, сугубо личную сторону. Посмотрите, как различно они говорят о своем творчестве.
Гораций, Державин, Пушкин почти в одинаковых словах гордо провозглашали: "Exegi monumentum", "Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Это не редкий пример. Многие поэты декларировали значимость своего пути. "Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств", - утверждал Маяковский.
А с другой стороны - Ньютон: "Я не знаю, чем я кажусь свету, но я сравниваю себя с ребенком, который, ходя по берегу моря, собирает гладкие камни и красивые раковины, а между тем великий океан глубоко скрывает истину от моих глаз" (См., например, [53]). Или эйнштейновское: "быть может, мне и пришли в голову одна-две неплохих мысли" [46] Эти слова, приписываемые Эйнштейну, возможно, фольклор (мне не удалось найти им документальное подтверждение), однако они хорошо соответствуют тому, что мог бы сказать Эйнштейн, каким мы его знаем.
. Можно ли представить себе, чтобы Бор, пусть даже застенчиво, сказал: "Все-таки, своими работами я воздвигнул себе нетленный памятник"?
В чем же дело? Художники самоуверенны и нахальны, а ученые скромники? Нет, конечно, причина совсем иная и более глубокая.
Ученому психологически легче, чем художнику. Создав нечто новое, он сравнительно скоро может себя проверить - экспериментом, т.е. критерием практики, как бы он ни был ограничен, просто математической проверкой. Все это способен произвести и он сам, и его коллеги. Истина или ошибка обнаружится, для сомнений не останется места.
Художник же не имеет другого критерия правильности своего пути, кроме внутреннего убеждения, своего собственного или других людей, причем он еще должен - также интуитивно - решить, чьи интуитивные суждения стоит учитывать, а чьи нет.
Чтобы пояснить сказанное примером, представим себе время, когда Пушкин создавал "Медного всадника". Это был период, когда в действительности его гений достиг вершины своей зрелости. Однако уже прошло несколько лет, как он лишился понимания публики и даже лучших представителей литературы. Не кто-либо, а Белинский писал, что Пушкин "умер или, может быть, только обмер на время". Молодые Тургенев, Фет, Аполлон Григорьев ставили Бенедиктова рядом с ним, а то и выше его, более ценя в Пушкине былые заслуги. "Невозвратимая потеря", - горевал Белинский. О широкой публике и говорить нечего [47] Об этом прекрасно рассказано в очерке С.М.Бонди [66].
. Именно тогда был создан "Памятник", опубликованный лишь через пять лет после смерти Пушкина. И вот в такой момент Пушкин написал: "Тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой". Здесь мы позволим себе (быть может, несколько вольное, но во всяком случае вполне безопасное) фантазирование. Возможно, что, написав эти слова, он заколебался: хорошо ли это необычное словосочетание - "тяжело-звонкое", да и какое-то не употребляемое никем "скаканье"? Он спрашивает совета у ближайших друзей, любимых и высоко ценимых, например сначала у Кюхельбекера (конечно, на самом деле в это время Кюхельбекер томился в крепости, но для нашей фантазии это не играет роли), и слышит в ответ: "Прекрасно! Ты, как Державин, - "веков закон - металла звон! Только зачем рядом простоватая "мостовая", снижающая пафос?" Да, но Кюхельбекер архаист, с которым всю жизнь идет спор. А мостовая рядом с тяжело-звонким скаканьем - это как простые Евгений и Параша рядом с великим Петром. Пушкин спрашивает Жуковского и получает совсем иное: "Что ты, Александр, для чего же мы всю жизнь освобождали чистый русский язык от пудренных париков прошлого века - чтобы опять к Державину и Сумарокову? Что это за "скаканье"? Кто так говорит?" Да, но Петр и Фальконе это ведь и есть восемнадцатый век. Пушкин - к Вяземскому и слышит ироническое: "Милый мой, в Петербурге мостовые деревянные, торцовые, какой уж тут звон, копыта стучат глухо". Да, но это есть - "как будто грома грохотанье", а всадник-то медный и под ним скала. Как же быть? Кому верить? Только себе, больше некому. "Ты сам свой высший суд: всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?"
Художник все время, даже если он прислушивается к чужим мнениям, сам должен делать выбор и решать, он сам за все в ответе. И потому он так часто беспокоен и так часто он один. Мотив одиночества пробивается даже тогда, когда художник говорит о всечеловеческом единении, и, может быть, именно поэтому он так жаждет и этого единения, и близости понимающей души. Из-за этого суждение художника о самом себе так шатко. Он постоянно вынужден убеждать себя: "я прав, я должен идти именно этим путем, я ничем другим, кроме своих творений не могу доказать им свою правоту, а они еще ее увидят". Именно поэтому Пушкин, такой скромный в высказываниях о себе лично (см. убедительные цитаты в [66]), меняется, когда он говорит о поэте вообще: "Ты царь, живи один...", "Поэт, не дорожи любовию народной" и т.д. (ср. у Пастернака: "Но пораженья от победы ты сам не должен отличать") . И это все отнюдь не пренебрежение к народу, - было бы смешно предполагать его у Пушкина. Гораций, Державин, Пушкин, как потом Маяковский, Блок ("Сегодня я - гений, - сказал он, закончив "Двенадцать") провозглашали свое величие не перед другими, не перед современниками и даже не перед потомками. Они внушали свою правоту себе самим. Мог ли Маяковский убедить кого-либо, кроме себя, твердя, что его стих, отвергаемый и высмеиваемый многими современниками, новое великое слово? Мог ли умнейший Пушкин не понимать, что потомство либо примет, либо не примет его творчество, но никакими доводами, никаким анализом своего творчества он сам повлиять на его суд не сможет?
Самоуверенное поведение художника, так часто встречающееся и в повседневной жизни (нужно ли оговаривать, что это отнюдь не всеобщее правило?), лишь средство самоутверждения, в котором ученый нуждается в гораздо меньшей степени. У того есть объективный критерий, недоступный художнику.
Если думать, что Маяковский и его современники в этом смысле были другими, менее скромными, чем Пушкин, то и Горация, и Державина нужно к ним присоединить. Это было бы явно несправедливо. Просто Маяковский жил в другой среде, на сто лет позже, когда были "улицы - наши кисти, площади - наши палитры". Стиль поведения был другой, не столь камерный (Маяковский носил желтую кофту, а Пушкин - отращивал ноготь на мизинце и носил на нем футляр). Но суть "самовозвеличивающих" строк та же. Это самовнушение, утверждение самого себя на избранном трудном, необычном пути, правильность которого логически доказать невозможно.
Осипу Мандельштаму принадлежит прекрасный афоризм: "Поэзия есть сознание своей правоты" [54, с.20]. Он полностью соответствует нашему "основному тезису" и справедлив не только для поэзии, но и для любого подлинного искусства. То же у Пастернака [55]:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: