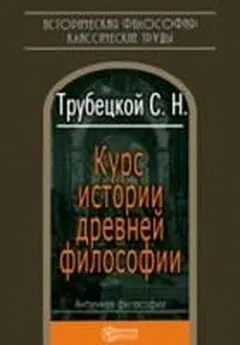Николай Трубецкой - Курс истории древней философии
- Название:Курс истории древней философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:978-5-94865-439-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Трубецкой - Курс истории древней философии краткое содержание
Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) – философ и политический деятель, профессор философии Московского университета.
«Курс истории древней философии» Трубецкого до сих пор является одним из лучших российских учебников по истории древнегреческой философии.
Курс истории древней философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другие, наоборот, и притом столь авторитетные судьи, как Целлер или Виламовиц Меллендорф, [136]считают Ксенофонтову «Апологию» безусловно неподдинной и не имеющей никакой цены. По-видимому, однако, и то, и другое мнение – крайности: апология Ксенофонта несомненно уступает «Апологии» Платона во всех отношениях и тем не менее она является и подлинной и ценной, поскольку она сохраняет отдельные исторические черты, опущенные этой последней, и дает нам важные указания для ее оценки и понимания.
Подлинность Ксенофонтовой «Апологии» доказывается прежде всего тщательным анализом ее языка: это несомненный подлинный язык Ксенофонта, с его излюбленными выражениями, его особенными отступлениями от чисто аттической речи, которые еще в древности объяснялись странствованиями и лагерной жизнью автора. [137]Подлинность этой апологии доказывается с тем неподражаемым простодушием, тем особенным специфическим пониманием, или, лучше сказать, непониманием Сократа, которое отличает автора «Воспоминаний»: те частные различия или противоречия, какие отмечались между Ксенофонтовой «Апологией» и «Воспоминаниями», [138]отходят на задний план и объясняются простым различием источников и литературных влияний, когда мы видим, каким образом автор этой апологии настаивает на строгости благочестия Сократа и самую смерть его объясняет утилитарными соображениями.
При написании своей «Апологии» Ксенофонт руководился как свидетельством Гермогена, так и показаниями других предшественников. [139]Произведения этих последних, судя по Ксенофонту, не были свободны от той литературной ошибки, в какую впадает он сам, влагая похвальное слово Сократу в уста самого Сократа. По этому поводу даже Ксенофонт выражает некоторое недоумение: во всех апологиях Сократ сам себя хвалит, и если все так пишут, значит так оно и было; но только зачем же он так неразумно себя хвалит? Ведь этим он, очевидно, мог лишь восстановить против себя своих судей.
Поведение Сократа представлялось загадочным для многих из его друзей: онкак бы сам вызывал свой смертный приговор; противники его не ожидали даже, что он явится на суд: они полагали, вероятно, что он покинет Афины, подобно Анаксагору или Протагору, как это можно заключить из слов Анита (Plat. 29 С). Как же объяснить его вызывающее поведение на суде, в особенности после того, как он был признан виновным и когда ему предоставлено было высказаться по поводу назначения ему наказания? Судя по словам Ксенофонта, будто никто из его предшественников этого не объясняет, можно было бы подумать, что «Апология» Платона ему неизвестна. Как бы то ни было, сомнения его разрешил Гермоген, от которого он узнал, что Сократ заранее предпочел умереть в полном обладании своих душевных и телесных сил, дабы избежать немощей и недугов старости: «велеречие» Сократа, возбудившее против него судей, соответствовало его намерению. И вот, воспользовавшись этим соображением, Ксенофонт заставляет Сократа говорить самому себе похвальное слово, «сильно восхищаясь собою» (ισχυρώζ αγαμενοζ εμαυτον) θ не брезгая плохою риторикой (напр., 18… το δε τουζ αλλουζ μεν ταζ ευπαθεναζ εχ τηζ αγοραζ πολυτελειζ ποριζεσθαι, εμε δε εχ τηζ ψυχηζ ανευ δαπανηζ ηδιουζ εχεινων μηχανασθαι). Κаким образом нашлись критики, признавшие эту апологию достоверным свидетельством о действительной речи Сократа, – понять трудно, тем более что сам Ксенофонт не оставляет читателя в сомнении и со свойственной ему наивностью ставит точку над i. Передавши по-своему речь Сократа, он торопится заметить: "очевидно, и самим Сократом и друзьями, говорившими в его защиту, было сказано больше этого; но я не старался рассказать все, что было на суде, и мне было достаточно показать, что Сократ более всего дорожил тем, чтобы не быть нечестивым по отношению к богам и не явиться несправедливым к людям, а чтобы ему не умирать, об этом он не считал нужным упрашивать, полагая, что ему самое время умереть. [140]Таким образом Ксенофонт указывает цель своего произведения – поговорить о благочестии, праведности и мудрости Сократа: «не могу не вспомнить об этом муже, а воспоминая, не могу не хвалить». При этом благочестивый и суеверный Ксенофонт старается особенно подчеркнуть совершенное православие Сократа: он может умереть спокойно и сохранить о себе столь же высокое мнение, как и до осуждения, потому что оказалось, что никаких новых богов, кроме Зевса, Геры и сущих с ними, он не почитал. За свое благочестие он и удостоился от богов особого пророческого дара и свидетельства Дельфийского оракула.
«Апология» Ксенофонта имеет много литературных предшественников и передает сведения, полученные из вторых рук, так как сам Ксенофонт, в отличие от Платона, на судоговорении не присутствовал. Его «Апология» написана сравнительно поздно – в ней говорится, что Анит и после смерти пользуется худой славою, а между тем еще в начале 387 г. Анит занимал правительственную должность. [141]И тем не менее, несмотря на все это, на свой риторический характер, эта апология, как сказано, сохраняет некоторые исторические черты, опущенные Платоном. Мы отметили уже, что он упоминает о свидетелях защиты (συναγορευοντεζ φιλοι), χто он указывает ответ Сократа на обвинение в религиозных новшествах: Платон опускает этот ответ, противополагая обвинению энергичную контратаку в «Евтифроне»; воспроизводить ее в «Апологии» было бы неуместным во всех отношениях и представлялось бы погрешностью против исторической и художественной правды. С другой стороны, было бы наивным распространяться о православии Сократа, как это делает Ксенофонт. Об отношении Сократовой философии к древнему благочестию Платон предпочитал говорить особо, а здесь, в «Апологии», ему подлежало выяснить общерелигиозный характер служения Сократа.
Это становится особенно ясным при сличении обеих «Апологий» в их ссылках на Дельфийского оракула. У Ксенофонта Сократ просто ссылается на него как на засвидетельствованное свыше в ответе на обвинение в нечестии и развращении юношества, и это, по-видимому, – правильное историческое воспоминание. Затем следует риторика: приведя предсказание, Сократ приглашает судей убедиться в его истинности и под этим предлогом вдается в напыщенное прославление собственных добродетелей. У Платона, понятно, подобного безвкусия мы не находим, но самая ссылка на оракула получает у него совершенно особый смысл. Он пользуется ею чрезвычайно искусно, чтобы показать религиозное значение деятельности учителя, и вместе он как бы стремится снять с него всякий упрек в «неразумном велеречии», [142]которое Ксенофонт, напротив того, доводит до нелепости. У Платона Сократ толкует предсказание в том смысле, что бог признал его мудрейшим из людей, дабы показать ничтожество человеческой мудрости пред мудростью божественной, так как он один признает про себя, что он ничего не знает: «на самом деле мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он хочет показать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит». Вследствие этого и обличение мнимого знания и мнимой мудрости представляется служением богу и проповедью мудрости божественной. Но этого мало: Сократ говорит, что оракул послужил началом его философской деятельности: его обличительный допрос, обращенный к ближним и в особенности к тем, кто почитались в чем-либо мудрыми и сведущими, вызван будто бы одним стремлением проверить и подтвердить истину слов оракула. Такой прием чрезвычайно искусен, показывая и объясняя в доступном для всех образе ту внутреннюю связь, какая существовала в действительности между положительным содержанием, идеальной сутью философии Сократа и отрицательной формой, в которой она являлась. И тем не менее это все-таки лишь прием, что как оракул, на который ссылается Сократ, так и самый вопрос Херефонта, его восторженного почитателя, уже предполагают не только начало философской деятельности Сократа, но и его известность. И чем искуснее такой прием, тем более вероятно приписывать его Платону. [143]По-видимому, философ, ссылаясь на оракула, указывал на него как на высшее свидетельство своего религиозного служения, как на внешнее подтверждение своего внутреннего оракула; он говорил перед судьями о своей миссии, своем посланничестве, как это показывает Платон (29–31), и это-то и показалось судьям тою «хулою», за которую он был признан виновным и приговореным к смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: