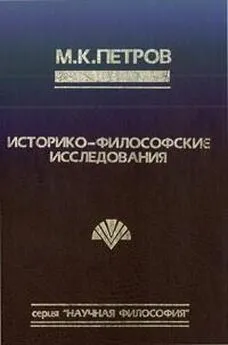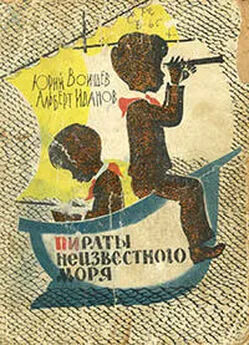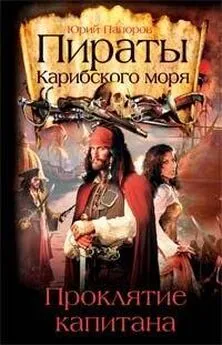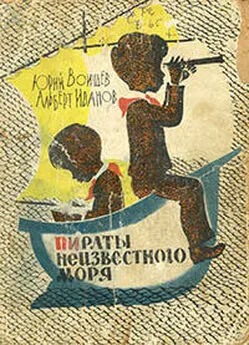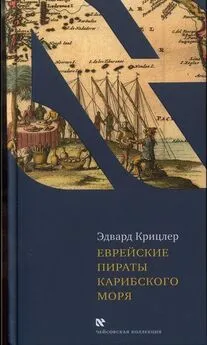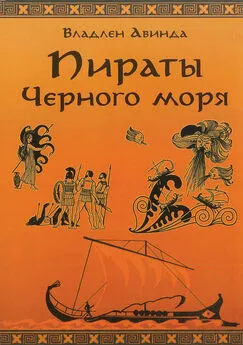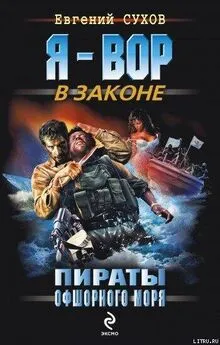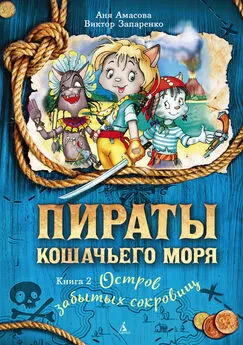Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.
- Название:Пираты Эгейского моря и личность.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность. краткое содержание
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
Пираты Эгейского моря и личность. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Какой уж тут смех, картина действительно «зеркальная»: плюсы становятся минусами, минусы - плюсами. Вот тут бы и отказаться от традиционного представления о том, что объект суть предметное отображение субъекта, признать, что никакого «выворачивания наизнанку» здесь нет, а есть лишь закономерная «медицинская» попытка нарисовать субъект, пользуясь палитрой красок-болезней, ни одна из которых не может быть признана достоинством, хотя многие из них, бесспорно, болезни «врожденные», унаследованные от проклятого прошлого, в том числе и биологического. Ясно, что в одних болячках, в одних негативных определениях ничего не изобразишь. И раз уж научная картина мира, традиционно принимавшаяся в силу ряда исторических причин, среди которых не последнюю роль играло восхищение успехами науки и техники, за картину - предметное отображение самого субъекта, оказывается несостоятельной, то было бы лишь естественно попытаться исследовать возможности какого-то другого, может быть, даже предметного представления субъекта, не использующего идею отображения живых, личностных, продуктивных качеств в безличной форме слепых автоматизмов.
Но движение в этом награвлении требует разложения деятельности на творчество и репродукцию, отказа от традиционного «смешанного» истолкования деятельности, требует парности, дуализма, а с точки зрения традиционной философской нравственности это уже смертный грех. Поэтому и начинается окольное какое-то, хотя и объяснимое, «восстановительное» движение за перемену знаков, когда только что объявленное минусом начинает переходить в свое другое: «Вот и захотелось мне посмеяться над этой оптикой, понимая ее устройство и не пугаясь при виде тех чудищ, в которые превращается ею Человек. Понимая, что зеркало кибернетических фантазий может в этом случае помочь мне яснее разглядеть подлинный облик человека и понять, чем ему стоит в самом себе дорожить, а от чего полезно бы поскорей отказаться и какие умонастроения могут повести его в рай, а какие в ад. А умонастроения, которые тут имеются в виду, вовсе мною не выдуманы. С ними можно встретиться на каждом шагу, и вовсе не только в кибернетике, а и в любой науке, так или иначе вынужденной касаться вопроса о взаимоотношениях человека и техники. И в медицине, и в литературоведении, и в политэкономии. Суть этих умонастроений, насколько я понимаю, - обожествление техники. Безразлично какой - то ли техники зубоврачебного дела, то ли техники стихосложения» (там же, с. 37).
Это, так сказать, первое восстановительное движение, в котором «научный абстракционизм» признается все-таки абстракционизмом содержательным - искаженным, разорванным, деформированным, но изображением человека. Второе, более решительное движение - признание ценности этой картины: «Техника - великое дело. Без техники нет цивилизации - это ее костяк, ее скелет. Техника - драгоценнейшее достояние человека, его богатство, которое надо беречь и множить. Это ясно как дважды два - четыре, и убеждать в том вряд ли кого-нибудь нужно» (там же, с. 37). Все так, но почему достояние человека, его богатство должно быть похожим на человека? Это гораздо менее ясно, как и последний ход восстановительной триады: «Обожествленная техника, как и все обожествленное, - это нищета человека. Божества нет без убожества. Давно известно, что чем больше человек приписывает богу, тем меньше он оставляет себе. Бог поэтому всегда есть изображение человека, только с обратным знаком - он всегда сконструирован из черт, которых реальному живому человеку именно и недостает. Мудрость, всеведение, всемогущество, красота и благость - всеми этими качествами люди наделяли своих богов в превосходной степени» (там же, с. 37).
Что в наш атеистический век любое обожествление беспочвенно, до добра не доведет, в этом мы целиком согласны с Ильенковым, готовы подписаться под его чувствами: «Я атеист, и любой пафос добровольного и самозабвенного служения какому бы то ни было богу - в человечьем, в сверхчеловечьем или аппаратурно-машинном варианте - мне глубоко противен. Любые старания соорудить для меня новомодный предмет обожания и поклонения взамен прежнего, устаревшего, вызывают во мне определенные чувства». У нас тоже, но чувства чувствами, а функция ответственного определения мира к лучшему все же остается. Даже если бы завтра исчезли и все огорчительные умонастроения, и тенденции к обожествлению, философу все равно пришлось бы отвечать на вопрос: возможно ли изменение мира к лучшему, а если возможно, то как, в каком смысле, по каким ориентирам. Если представленная кибернетиками картина мира и в самом деле предметно отображает субъект, то каким бы скверным по качеству это отображение не было, другого-то не предлагается. Более того, если все дело только в знаках, если в нарисованном наукой объекте правомерно видеть «новомодный предмет обожания и поклонения», созданный по образу и подобию всех предыдущих предметов того же рода, то у нас, собственно, есть только два выхода из ситуации: либо оптимистическое обожествление, либо пессимистическое «осатанение», «дьяволизация» такого предмета. Навязшие уже в зубах разговоры о джинах и бутылках, как и разговоры о научно-технической революции - «раковой болезни» цивилизации показывают, что эта вторая сторона альтернативы истолкования вполне реальна.
Либо обожествлять, либо бояться, что в общем-то одно и то же. Нам очень хотелось бы ошибиться, но судя по тому, что пишется о современности, этой альтернативой и исчерпывается отношение к обновлению и его основному агенту - науке. Даже вот у Ильенкова смех получается какой-то незаразительный, не очень естественный, когда не сразу и разберешь, смеется человек или оправдывается за слабости человеческой натуры: «А я думаю, что нам, грешным людям, все-таки полезнее посмеяться при виде изображения, нежели проливать перед ним слезы восторга. И не горевать по поводу слабости собственного ума, а постараться поскорее поумнеть. Ей-же-богу, мозг наш устроен природой-матушкой так хорошо, что он вполне позволяет это сделать. Никаких трагических несовершенств, которые могли бы помешать нам наладить, наконец, свои собственные отношения, наш мозг в себе не заключает. Это просто медицинский факт» (с. 38).
Скверно, если это медицинский факт. К тому же, что значит поумнеть? Что значит наладить наконец свои собственные отношения? Еще одно решение принять на самом высоком уровне о дальнейшем поумнении и налаживании? Куда умнеть? Куда налаживать? Что необходимо приобрести и от чего отказаться в этих процессах? В каких объемах? В каком отношении стоим мы сегодня к этим конечным ориентирам поумнения и налаживания? Стараться-то люди всегда умели, лбы расшибали от старательности, на смерть и костры шли ради тех самых фигур, которые при ближайшем рассмотрении оказались «чудищами» в зеркалах кибернетической комнаты смеха. Куда же теперь стараться?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: