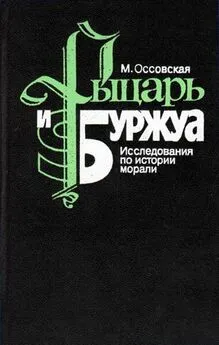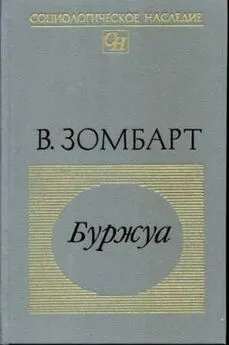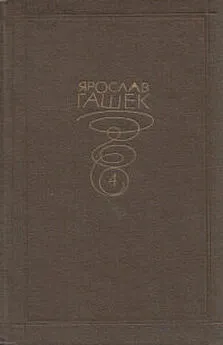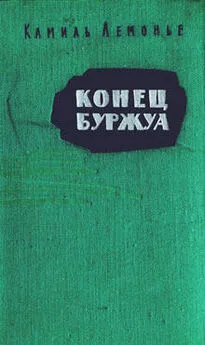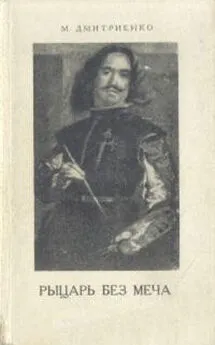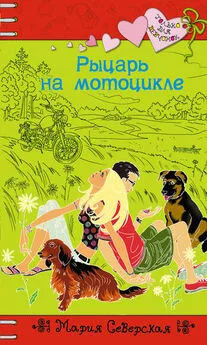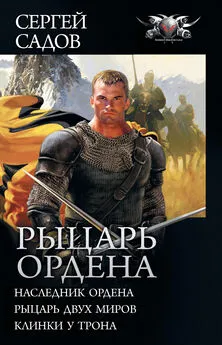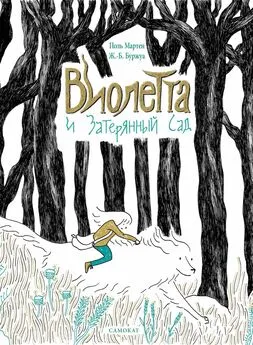Мария Оссовская - Рыцарь и буржуа
- Название:Рыцарь и буржуа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Оссовская - Рыцарь и буржуа краткое содержание
Книга состоит из двух наиболее важных в теоретическом отношении работ крупнейшего польского исследователя в области морали. Работа «Рыцарский этос и его разновидности» посвящена рассмотрению разновидностей и эволюции рыцарского этоса, начиная с античности и кончая новейшей историей. В «Буржуазной морали» обстоятельно анализируется становление и развитие норм и ценностей буржуазной морали и присущих ей личностных образцов поведения. В ходе рассмотрения исторических типов нравственности автор широко привлекает материал художественной литературы, публицистики, мемуаров, этнографических и социологических исследований, что делает возможным рекомендовать книгу не только специалистам по истории этики, но и широким кругам читателей.
Рыцарь и буржуа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для Вольнея это не было бы проблемой: он не замечал противоречия интересов, а следовательно, и противоречия между собственным интересом и долгом. Наш долг — помогать другим, но таков же и наш интерес, ведь тот, кто не помогает другим, не может рассчитывать на помощь, а тот, кто посягает на чужое имущество, не может рассчитывать на уважение других к его собственному имуществу. Это равновесие охраняется санкциями, которые можно было бы назвать «естественными» по аналогии с естественными наказаниями у Руссо. Холод в комнате, как помним, был естественным наказанием для Эмиля, разбившего оконное стекло. Для Гельвеция гармония интересов не гарантировалась так «естественно» и так автоматически, но требовала искусного законодателя, который при помощи системы наказаний и поощрений добился бы, чтобы добродетель окупала себя, а проступок оказывался бы всегда просчетом. Впоследствии эта утопия «совершенного законодательства», которую Плеханов считал характерной для XVIII века буржуазной утопией, поразила Бентама. В то время как у Гельвеция царит искусственное согласие интересов, у Вольнея оно скорее естественное . Такое различие было связано с тем, что Вольней больше, чем Гельвеций, привык мыслить в биологических категориях. Хотя Гельвеций и в законодательстве, и в морали хотел в качестве исходной точки взять некие первичные и всеобщие человеческие склонности (например, стремление избегать страданий и искать наслаждения), однако признание таких неизменных факторов не мешало ему с исключительной силой и настойчивостью утверждать, что склад человеческого ума полностью зависит от обстоятельств, в которых он формируется: от формы правления, от законодательства и от приобретенных в этих обстоятельствах привычек.
Мы уже упомянули, что в этике Вольнея, как и в этике большинства его современников, природа человека, вопреки религиозной этике, принимается такой, какова она есть. «Подавленные страсти, — говорит Дидро, — низводят выдающихся людей с их высоты. Принуждение уничтожает величие и энергию природы» Дидро Д. Философские мысли. — Собр. соч. М. — Л., 1935, т. 1, с. 92.. В то время как христианская этика провозглашала необходимость обуздания грешной природы человека, просветительская этика вовсе не требует от человека преодолевать собственную природу. Принуждать себя к чему-либо — «совершенно не во вкусе времени», как писал один из современников Вольнея. «Некоторые авторы, — замечает не без иронии Вовенарг, — смотрят на нравственность так же, как на современную архитектуру, в которой ищут прежде всего удобства» Цит. по: Hazard Р. Ор. cit., vol. 1, ch. IV ("La morale").. И в самом деле, этика Вольнея не знает самоотречения и героизма, связанных с конфликтами: ведь конфликтов у него нет. Счастье, которое он обещает, — спокойное счастье, жизнь в безопасности и блаженном достатке (douce aisance). Этот блаженный достаток для него чрезвычайно важен; восхваляя определенное поведение, он не забывает подчеркнуть, какие финансовые выгоды оно обеспечивает; а жизнь в бедности — обычная у него угроза, когда ему надо кого-либо от чего-либо отговорить.
Французские моралисты XVIII века, и вместе с ними Вольней, не желают — опять-таки вопреки религиозной этике — в оценке поступков считаться с намерением или мотивом; они считаются только с последствиями. Это — тоже голос эпохи, о чем можно узнать из крайне любопытной книги Ш. Дюкло (настоящее имя автора — Шарль Пино), озаглавленной «Замечания о нравах этого века». Книга Дюкло, опубликованная в 1751 г., то есть за семь лет до книги Гельвеция «Об уме», хорошо отражает дух эпохи как суммы истин, которые тогда носились в воздухе. Лишь по плодам можно оценить растение, пишет Дюкло в связи с проблемой оценки человеческого поведения См.: Dudos Ch. Consideacute;rations sur les moeurs de ce siegrave;cle. Paris, 1798, p. 2.. Каждый человек преследует собственные интересы, но поступки, вытекающие из этой общей для всех мотивации, будут добрыми или дурными в зависимости от их последствий. Быть полезным и к людям доброжелательным — таков, по мнению Дюкло, лозунг эпохи.
Для Гельвеция дополнительным доводом в пользу отвлечения от мотивов поведения была трудность их выявления, немалая даже для совершившего данный поступок. Намерение само по себе не может быть ни заслугой, ни преступлением, подчеркивает Вольней. Добродетель, как уже говорилось, санкционируется у него полезностью. Она сводится просто-напросто к совершению полезных для человека и общества поступков («Катехизис», с. 117). «Добродетелями по предрассудку» Гельвеций называет все добродетели, не оправдываемые полезностью. Полезность у обоих авторов в конечном счете — всегда полезность для тела. Любое наслаждение или страдание у Гельвеция носит физиологический характер, любое благо (как это еще сильнее подчеркивает Вольней) — это благо для организма.
Из известных нам этических систем французского Просвещения та, которую развивает Вольней в своем «Катехизисе», звучит в наибольшей степени «по-мещански», если понимать это как определенную типологическую категорию. В упомянутой выше книге Дюкло, на сорок с лишним лет опередившей вольнеевский «Катехизис», еще заметны реликты рыцарской этики, господской ориентации. В ней еще сказывается «человек чести», напоминающий «величавого» у Аристотеля. «Человек чести, — пишет Дюкло, — мыслит и чувствует благородно. То, чем он руководствуется, — не законы, не рассуждения и тем более не подражание; он мыслит, говорит и действует с неким превосходством и как бы сам является для себя законодателем». И дальше: «Честь — инстинкт добродетели, она придает ей смелость. Она не рассуждает, не притворяется, действует даже и безрассудно...» Ibid., p. 52-53.У Вольнея все по-другому. Его образцовый гражданин рассуждает и рассчитывает, и это окрашивает все его отношения с другими людьми. Он руководствуется принципом «do ut des» — «даю, чтобы ты дал мне». Принцип этот, чуждый демонстративной щедрости и великодушию рыцарской этики, часто называют принципом взаимности; так его называет и Вольней. Этот принцип, однако, не следует смешивать с принципом «око за око, зуб за зуб», который тоже можно было бы назвать принципом взаимности, но который представляет собой нечто совершенно иное: именно он лежит в основе требования мести, присущего рыцарскому этосу. Принцип «даю, чтобы ты дал», то есть принцип взаимности, в нашем понимании этого термина, впервые в европейской литературе мы встречаем в сказках Эзопа, которые недаром имели такой успех в XVIII веке, а также в «Трудах и днях» Гесиода, где заявляет о себе совершенно новое по сравнению с рыцарской эпопеей течение этической мысли.
Принцип «даю, чтобы ты дал» по видимости констатирует определенную мотивацию поведения человека. Норма Вольнея «живи для других, чтобы они жили для тебя» в первой своей части содержит постулат, а во второй — стимул, побуждающий следовать этому постулату. Но можно изложить эту норму в виде правила целесообразного поведения, гласящего: «Если ты хочешь, чтобы другие жили для тебя, живи для них», — правила, указывающего средства достижения неких целей. В норме «живи для других, чтобы они жили для тебя» можно выделить негативную и позитивную стороны. Негативная советует не делать другим того, что было бы неприятно тебе самому, иначе тебе могут отплатить тем же; позитивная советует делать другим то, что было бы тебе самому приятно, в расчете на такое же ответное поведение. Христианское смирение и призыв подставлять обидчику другую щеку, разумеется, неприемлемы с точки зрения принципа взаимности. Они лишь умножают число обид и несправедливостей («Катехизис», с. 152). Все идет хорошо тогда, когда между тем, что мы даем, и тем, что получаем, соблюдается равновесие («Катехизис», с. 150). Это равновесие — основа общественной жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: