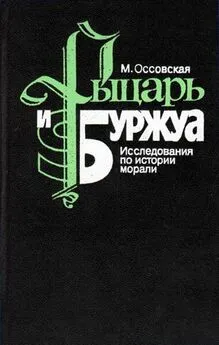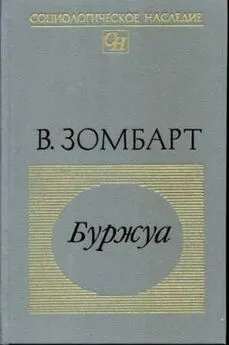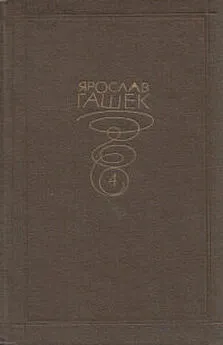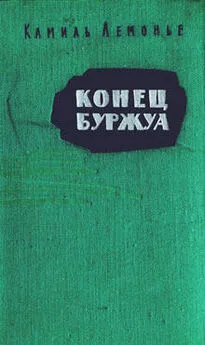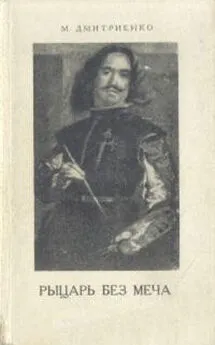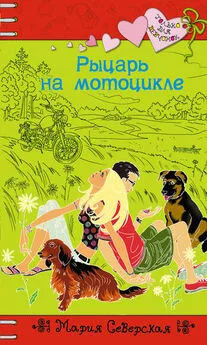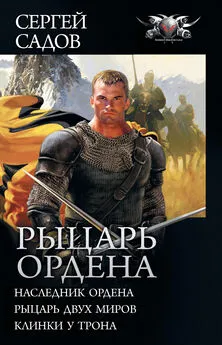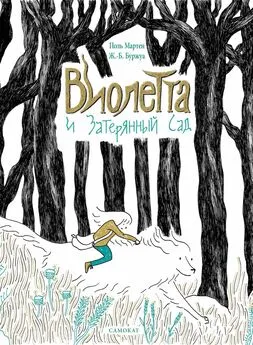Мария Оссовская - Рыцарь и буржуа
- Название:Рыцарь и буржуа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Оссовская - Рыцарь и буржуа краткое содержание
Книга состоит из двух наиболее важных в теоретическом отношении работ крупнейшего польского исследователя в области морали. Работа «Рыцарский этос и его разновидности» посвящена рассмотрению разновидностей и эволюции рыцарского этоса, начиная с античности и кончая новейшей историей. В «Буржуазной морали» обстоятельно анализируется становление и развитие норм и ценностей буржуазной морали и присущих ей личностных образцов поведения. В ходе рассмотрения исторических типов нравственности автор широко привлекает материал художественной литературы, публицистики, мемуаров, этнографических и социологических исследований, что делает возможным рекомендовать книгу не только специалистам по истории этики, но и широким кругам читателей.
Рыцарь и буржуа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Полноправными гражданами были лишь спартиаты. В эпоху персидских войн их насчитывалось около восьми тысяч; со временем это число все заметнее убывало. Торговлей и ремеслом занимались периеки, лишенные политических прав, а илоты (потомки завоеванного местного населения) обрабатывали поделенную между спартиатами землю. Илоты были совершенно бесправны; илота можно было безнаказанно убить или разгромить его дом. В Спарте, писал Монтескье, «свободные пользовались крайней свободой, а рабы были в крайнем рабстве» («О духе законов», 11, XIX) [Сочинение «О духе законов» цитируется (с указанием книги и главы) по изд.: Монтескье Ш. Избр. произв. М., 1955], добавляя в другом месте: «В Лакедемоне рабы были совершенно беззащитны против всякого рода обид и несправедливостей. Положение их было особенно тяжелым потому, что каждый из них был не только рабом того или иного гражданина, но и рабом всего общества; они принадлежали всем и одному» (15, XVII).
«Лакедемон же, — писал все тот же Монтескье, — весь был одной армией, которую содержали земледельцы» (23, XVII). Действительно, военная служба была единственным занятием спартиатов. Законы ведь запрещали им заниматься торговлей и ремеслом. Они должны были защищать страну, предоставив трудиться периекам. Считалось, что между собой спартиаты равны, отсюда их название «homojoj» [Равные (греч.) ]. Спартой они управляли с копьем в руке. Даже во время сна они обязаны были иметь его при себе. Современники неоднократно сравнивали Спарту с военным лагерем. Поддержание постоянной военной готовности, считали они, было необходимо, так как у Спарты было немало внешних врагов, к тому же ей постоянно угрожали илоты, которые ждали лишь удобного случая, чтобы восстать. Таким случаем стало, например, землетрясение 464 года. Но угроза восстания еще и сознательно раздувалась: тиранам свойственно так много говорить о безопасности, чтобы оправдать собственный деспотизм.
Законы не разрешали спартиатам обогащаться. Иметь золото и серебро было строжайше запрещено, а распоряжение имуществом затруднялось множеством предписаний; как писал Ксенофонт, «к чему же поможет обогащение там, где приобретение доставляет гораздо больше неприятностей, чем удовольствия» (VII, 6). Осведомительная служба спартанцев, или «тайный надзор», извлекала на свет грехи граждан, нарушавших эти законы, а также старалась выявить любые признаки бунта среди илотов.
Отложим на время вопрос о том, в какой степени эти нормы осуществлялись на практике, и попробуем нарисовать образ примерного спартанца. Он, правда, известен по разного рода популярным работам; тем не менее стоит воспроизвести его в основных чертах еще раз.
В то время как гомеровские герои придавали большое значение красоте человека, спартанцы как будто бы не обращали внимания ни на красоту, ни на одежду. Их косматые головы и бороды, их неопрятность коробили афинян. Одного хитона считалось достаточно на все четыре времени года, а ноги полагалось закалять хождением босиком. Розгами испытывалось умение сносить боль. «Лакедемоняне, — скептически замечал Аристотель в «Политике», — ... постоянными тяжелыми упражнениями делают детей звероподобными, как будто это более всего полезно для развития мужества» (1338b). Известно, что мальчик, оставленный в живых после сурового отбора, совершавшегося сразу после рождения младенца, рос в семье лишь до семи лет. Затем он воспитывался вне семьи, в группах, подчиненных руководителю, которого надлежало слушаться беспрекословно. В полном соответствии с нормами, существовавшими в Спарте, Платон писал: «Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне, и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям» (942a-b). В отсутствие же начальника любой гражданин наделяется в «Законах» правом приказывать, руководствуясь благом, и наказывать за проступки.
Вот каким порядкам противопоставлял афинские порядки Перикл в знаменитой речи, приводимой у Фукидида. «Каждый из нас, — говорил он, — сам по себе может с легкостью и изяществом проявлять свою личность в самых различных жизненных условиях» (II, 41, 1) [Фукидид цит. по: Фукидид. История. Л., 1981]. «Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами за и против» (II, 40, 2).
После такой дрессировки послушание у спартиатов должно было не только быть беспрекословным, но и служить предметом гордости. «В других городах, — писал Ксенофонт, — могущественные люди не желают даже, чтобы думали о них, что они боятся своих начальников и считают это неблагородным признаком. В Спарте лучшие и высшие люди особенно покоряются начальникам и гордятся своей покорностью, и, когда их зовут, они не идут медленно, а бегут...» (VIII, 2). «Ведь у вас — хотя вообще-то ваши законы составлены надлежащим образом, — говорит Платон [Точнее, Афинянин, излагающий в «Законах» взгляды автора], обращаясь к представителям Крита и Спарты, — в особенности превосходен один закон, запрещающий молодым людям исследовать, что в законах хорошо и что нет, и повелевающий всем единогласно и вполне единодушно соглашаться с тем, что в законах все хорошо...» (634 d — e). Мнение, поистине любопытное в устах человека, который хотел бразды правления вверить философам как мудрейшим из людей и который первейшим и главным даром богов признавал дар разума.
Если о красоте спартанец не заботился, то забота о физической силе и ловкости стояла у него на первом месте. Этому должны были способствовать брачные и внебрачные союзы, в которых оба партнера хорошо подходили бы друг другу по своим физическим качествам, союзы, подчиняющиеся соображениям евгеники. Силу и ловкость развивали физические упражнения. Военной закалке служила охота на диких животных, а также на заподозренных в мятежных настроениях илотов. Допускалось тренировать хитрость ловкими кражами, хотя за неудачную кражу наказывали. Физическая культура, как известно, была обязательна и для женщин, которые принимали участие в состязаниях наполовину обнаженными. Чрезмерная свобода женщин осуждалась Аристотелем. «Законодатель, желая, чтобы все государство в его Целом стало закаленным, вполне достиг своей цели по отношению к мужскому населению, — писал он в «Политике», — но пренебрег сделать это по отношению к женскому населению: женщины в Лакедемоне в полном смысле слова ведут своевольный образ жизни и предаются роскоши» (1269 b). «Когда же Ликург, по преданию, попробовал распространить свои законы и на женщин, они стали сопротивляться, так что ему пришлось отступить» (1270 а).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: