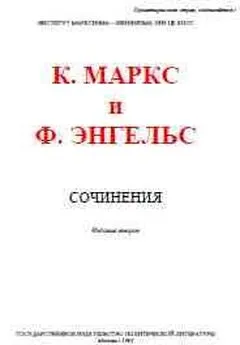Карл Маркс - Собрание сочинений, том 11
- Название:Собрание сочинений, том 11
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Маркс - Собрание сочинений, том 11 краткое содержание
В одиннадцатый том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса входят статьи и корреспонденции, написанные с конца января 1855 по апрель 1856 года.
Собрание сочинений, том 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Налицо также все признаки того, что одной из важных причин внезапного отступления князя Горчакова явился недостаток продовольствия для армии в целом. Прекращение судоходства русских на Азовском море, хотя оно и не сказалось сразу, как этого ожидали английская и французская пресса, столь нуждавшаяся в то время в сообщениях об успехах, в конце концов все же должно было доставить русским много затруднений, так как у них осталась лишь одна операционная линия, и подвоз вследствие этого уменьшился. И без того огромные трудности перевозки продовольствия, боевых припасов и фуража из Херсона через малонаселенные степи должны были еще больше возрасти, после того как этот путь стал единственным, по которому можно было снабжать армию. Транспортные средства, собранные путем реквизиций на Украине и в области Войска Донского, постепенно пришли в негодность; большое количество лошадей и волов пало от непосильной работы и недостатка фуража; и по мере того, как ближайшие губернии опустошались, доставлять необходимые запасы становилось все труднее. Перебои в снабжении, очевидно, дали себя знать раньше всего не столько в самом Севастополе (где, на случай блокады города и с Северной стороны, были, разумеется, созданы запасы), сколько в лагере под Инкерманом, в Бахчисарае и в пунктах, через которые следовали подкрепления. В сообщениях союзного командования не раз уже указывалось на такое положение дел, но оно подтверждается также и другими обстоятельствами. Только невозможностью обеспечить продовольствием даже те войска, которые сейчас находятся в Крыму, можно объяснить тот факт, что двум дивизиям гренадер, так долго находившимся в пути и, как говорят, теперь достигшим Перекопа, не было разрешено двигаться дальше и принять участие в сражении на Черной; этим же объясняется и то, что, хотя большая часть войск, шедших на помощь Севастополю, не прибыла, русские все же решились на это сражение, располагая армией, крайне недостаточной для выполнения поставленной перед ней задачи.
Таким образом, все это подтверждает предположение, что деморализация большей части русских войск и недостаток продовольствия для полевой армии побудили Горчакова не возлагать слишком много надежд на кратковременную отсрочку сдачи крепости, которую невозможно стало защищать. Горчаков воспользовался последней возможностью спасти гарнизон и, по-видимому, поступил правильно. Иначе, судя по всему, ему пришлось бы бросить гарнизон на произвол судьбы, собрать свою полевую армию и отступить в глубь Крыма, если не до самого Перекопа. В этом случае гарнизон Южной стороны очень скоро был бы вынужден либо тайком переправиться на Северную сторону, либо капитулировать; гарнизон же Северной стороны, потеряв всякую надежду на то, что его когда-нибудь сменят, и имея в своем составе деморализованные войска, вынужден был бы вследствие голода сдаться.
Пока у русских оставалась надежда не только поддерживать численность своей армии в Крыму приблизительно на уровне численности армии союзников, но и получать подкрепления, которые дали бы им большой численный перевес, Северная сторона Севастополя представляла собой позицию огромного значения. Удерживать Северную сторону силами гарнизона, в то время как полевая армия занимала те позиции, о которых мы знаем из последних сообщений, означало заставить союзников расположить свою армию на плато Гераклейского Херсонеса. Это означало также не допустить их корабли в Севастопольскую бухту и лишить их возможности устроить подходящую морскую операционную базу где-либо ближе, чем в Босфоре, потому что ни Камыш, ни Балаклава для этой цели не пригодны. Пока русские были в состоянии вести полевые действия в Крыму, Северная сторона в такой же степени была ключом ко всему Крыму и определяла его военное и морское значение, в какой Малахов курган был ключом к Южной стороне. Но коль скоро русские не в силах вести полевую войну, Северная сторона уже не имеет большого значения. Это, разумеется, довольно сильная укрепленная позиция, но если повести против нее правильную осаду с достаточным количеством войск, она неминуемо будет сдана, ибо помощи ей ждать неоткуда.
Такое мнение может показаться странным, если вспомнить, какое огромное значение справедливо приписывалось Северной стороне. А между тем это мнение совершенно обоснованное. Нынешняя война в целом производила впечатление фортификационной и осадной войны, и на взгляд поверхностного наблюдателя совершенно свела на нет успехи военного искусства, обусловленные быстрыми маневрами Наполеона, и вернула его к уровню Семилетней войны. В действительности же дело обстоит как раз наоборот. В наше время крепости и группы крепостей имеют значение только как неподвижные точки, на которые полевая армия опирается во время своих маневров. Так, лагерь в Калафате был предмостным укреплением, позволявшим Омер-паше угрожать русским с фланга; Силистрия, Рущук, Варна и Шумла были, так сказать, четырьмя выступающими углами большого укрепленного лагеря, куда Омер-паша всегда мог отступить и куда противник не мог за ним последовать, пока не были захвачены или нейтрализованы, по крайней мере два из этих выступающих углов. Так, Севастополь служил опорным пунктом русской армии в Крыму, и всякий раз, как эта армия уступала противнику по численности или в другом отношении оказывалась под угрозой, Севастополь давал ей возможность передышки до прибытия новых подкреплений. Для союзников Севастополь был базой русского военного флота, которую надо было разрушить, морской операционной базой, которой надо было овладеть; для русских он означал обладание Крымом, потому что это была единственная позиция, которую в ожидании подкреплений можно было удерживать с гораздо меньшими, чем у противника, силами. Таким образом, окончательный исход всегда зависел от полевых армий, а значение крепостей определялось не их природной или искусственно приданной им мощью, т. е. внутренне присущей им ценностью, а той защитой и поддержкой (appui), какую они могли оказать полевой армии. Ценность их стала относительной. Это уже не самостоятельные факторы в войне, а всего лишь выгодные позиции, которые иногда целесообразно защищать всеми имеющимися средствами и до последней возможности, а иногда и нет. Севастопольская кампания доказывает это лучше, чем любая другая. Севастополь, как и все подлинно современные крепости, играет роль лагеря, защищенного долговременными укреплениями. До тех пор, пока наличных сил достаточно для обороны такого лагеря, пока нет недостатка в снабжении и связь с главной операционной базой надежна, в особенности пока такой лагерь, удерживаемый сильным гарнизоном, не позволяет противнику пройти мимо него, не подвергаясь опасности, до тех пор он имеет первостепенное значение и может расстроить планы противника на все время кампании. Но когда всех этих условий уже нет налицо, когда обороняющиеся терпят одну неудачу за другой, их запасы продовольствия начинают иссякать и они рискуют оказаться отрезанными от своей базы и разделить участь австрийцев при Ульме в 1805 г. [279], тогда безусловно следует предпочесть абстрактной ценности позиции безопасность самой армии и как можно скорее отойти на Другой, более выгодный рубеж.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: