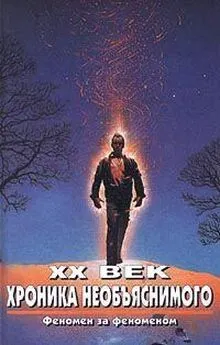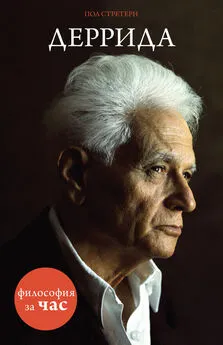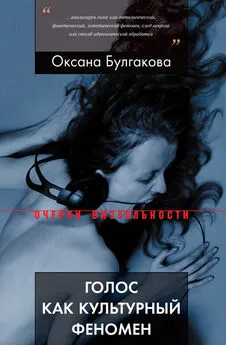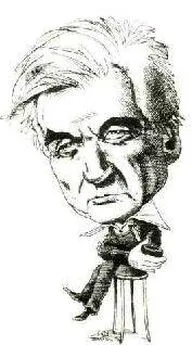Жак Деррида - Голос и феномен
- Название:Голос и феномен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Алетейя»
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89329-171-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Деррида - Голос и феномен краткое содержание
Публикуемые в книге произведения Жака Деррида «Голос и феномен», «Форма и значение» и «Различение» принадлежат к его работам шестидесятых годов. Вопросы, обсуждаемые здесь, многочисленны: это и внутренний критицизм феноменологии и ее одновременная фундаментальная захваченность метафизикой; это и изначальное единство идеальности и феноменологического голоса; это и проблема сущностной связи речи со смертью субъекта и исчезновением объектов; это и круговое отношение между смыслом и значением и формой; это и завораживающее движение знаменитого различения-différance,выходящего на сцену с истощением всех оппозиций и т. д.
Книга адресована философам, логикам, культурологам и широкому кругу читателей, интересующихся современной французской философией.
Голос и феномен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так что обходные маневры, периоды, синтаксис, к которым я должен буду часто прибегать, окажутся, порой удивительно, похожими на обходные маневры, периоды и синтаксис отрицательной теологии. Уже потребовалось отметить, что различение не есть , не существует, не является сущим-присутствующим ( on ), каково бы последнее ни было; и нам предстоит поэтому указать на все то, чем это различение не является , иначе говоря на все ; и, следовательно, подчеркнуть, что различение не имеет ни существования, ни сущности. Оно не зависит ни от какой категории сущего, будь то присутствующее или отсутствующее. И все же то, что так обозначает себя как различение, не выступает теологическим, оно не принадлежит даже самому отрицательному порядку отрицательной теологии, поскольку та всегда занята, как известно, выделением сверхсущностного [ supraessentialité ] за конечными категориями сущности и существования, то есть присутствия, и всегда старается напомнить, что если предикат существования отрицаем за Богом, то это знаменует признание за Божественным способа бытия высшего, непостижимого, невыразимого. Здесь речь идет не о таком движении, и это должно, по-видимому, постепенно подтвердиться. Различение не только не поддается любой его онтологической или теологической — онто-теологической — адаптации [ réappropriation ], но, создающее даже пространство, в котором онто-теология — философия — производит свою систему и свою историю, оно содержит онто-теологию в себе, регистрирует ее и изнуряет безвозвратно.
По той же самой причине я не могу каким-либо образом начинать трассировку связки или чертежа различения. Поскольку то, что здесь как раз и оказывается сомнительным, это претензии законного начала, абсолютной отправной точки, исходного пункта. Проблематика письма открывается постановкой под вопрос ценности arkhe [80] . To, что я предложу здесь, не будет, следовательно, развертываться просто как философский дискурс, действующий от принципа, постулатов, аксиом или дефиниций и движущийся согласно дискурсивной линейности последовательности доводов. Все в трассировании различения является стратегическим и полным случайностей. Стратегическим — потому что никакая трансцендентная, находящаяся вне поля письма истина не может теологически возвышаться над тотальностью поля. Полным случайностей — потому что это стратегическое не есть нечто простое, в том смысле, в каком говорят, что стратегия ориентирует тактику исходя из намеченной конечной цели, telos'a или задачу доминирования, господства над движением или областью и решающего овладения ими. Стратегия в конце концов без конечной цели — можно было бы назвать это слепой тактикой, эмпирическим блужданием, если бы ценность эмпиризма сама не извлекала бы весь свой смысл из своей оппозиции философской ответственности. Если в трассировке различения имеет место некое блуждание, такое блуждание в равной степени не является ни линией философско-логического дискурса, ни линией его симметричной и солидарной обратной стороны, дискурса эмпирико-логического. За этой оппозицией находится понятие игры , до и по ту сторону философии оно указывает на единство случайности и необходимости в расчете без цели.
Вот почему благодаря решимости и правилу игры, если угодно, оборачивающему эту решимость на саму себя, мы попадем в продумывание различения именно через тему стратегии или стратегемы. Этим только стратегическим оправданием я хочу подчеркнуть, что полезное действие данной тематики различения может очень сильно — постепенно оно должно будет оказаться снятым — передаваться ею самой, если не ее замещению, то по крайней мере ее последовательному развитию в цепи, которой она на самом деле никогда не будет управлять. Вследствие чего она, отмечу еще раз, не является теологической.
Я сказал бы, следовательно, прежде всего, что различение, которое не есть ни слово, ни понятие, показалось мне наиболее свойственным продумыванию, если не подчинению — поскольку мысль оказывается здесь, может быть, тем, что находится в некотором необходимом отношении со структурными границами господства, — самого неустранимого из нашей «эпохи». Я отправляюсь, таким образом, стратегически из места и времени, где мы пребываем, хотя мое начало и не допускает обоснования и хотя всегда как раз исходя из различения и его «истории» мы можем претендовать на знание того, кто и где мы есть и чем могли бы быть границы «эпохи».
Пусть «различение» и не является ни словом, ни понятием, предпримем, тем не менее, попытку несложного и приблизительного семантического анализа, который сориентирует нас в нужном направлении.
Известно, что глагол «différer» (латинский глагол differre ) имеет два смысла, которые кажутся весьма несхожими; они составляют, например в словаре Литтре, предмет двух отдельных статей. В этом плане латинский differre не является простым переводом греческого diapherein [81] , и это не останется для нас без последствий, поскольку связывает данную тему с языком особым, и языком, который слывет менее философским, менее изначально философским, чем другой. Потому что распределение смысла в diapherein греческом не имеет в своем составе одного из двух мотивов differre латинского, а именно действия откладывания на будущее, принятия во внимание, подсчета времени и сил в операции, которая предполагает экономическое исчисление, обходной маневр, отсрочку, задержку, сдержанность, увещание, все концепты — в дальнейшем вкратце представленные здесь — слова, которым я никогда не пользовался, но которое можно было бы вписать в данную последовательность: промедление [temporisation] . Différer в этом смысле — значит медлить, значит прибегать, сознательно или неосознанно, к временному и выжидательному посредничеству обходного маневра, подвешивающего осуществление или исполнение «желания» или «воли», реализующего их, следовательно, в режиме, который отменяет или умеряет их реализацию. И мы увидим — позднее, — в каком отношении такое промедление является также овременением [ temporalisation ] и опространствлением [ espacement ], становлением-временем пространства [ devenir-temps de l'espace ] и становлением-пространством времени [ devenir-espace du temps ], «исходным основанием» времени и пространства, как выразились бы метафизика или трансцендентальная феноменология на языке, который здесь критикуется и смещается.
Другой смысл différer — самый обычный и легко распознаваемый: не быть идентичным, быть другим, отличным и т. д. Речь идет о difieren(t)(d)s [82] , слове, которое можно писать — когда будет угодно — с t или d на конце. Но стоит ли вопрос об инаковости различия или инаковости аллергии и полемики — необходимо, чтобы среди элементов обнаруживалось разнообразие, активно, динамично, и с некоторым постоянством в повторении, интервале, дистанции, опространствлении .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: