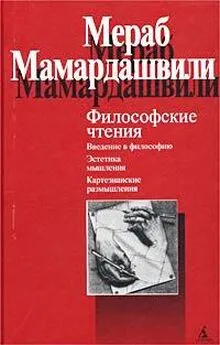Мераб Мамардашвили - Философские чтения
- Название:Философские чтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:5-267-00413-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мераб Мамардашвили - Философские чтения краткое содержание
Мераб Константинович Мамардашвили — один из интереснейших современных философов, человек безупречного вкуса, магического обаяния и редкой доброты.
Все его интересы были сосредоточены на человеческой личности, ее ответственности и свободе, на роли философии в жизни и ее месте в культуре. Все три работы, включенные в данное издание: «Введение в философию», «Эстетика мышления» и «Картезианские размышления» — посвящены проблеме сознания, которую М. К. Мамардашвили считал предельным понятием философии.
Философские чтения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я говорил: собранный субъект, или измерение действенности. В философии это называется началами или источниками-в той мере, в какой они трансцендируют случайность феномена человека. Помните, я начинал всю эту тему с проблемы статуса человека в мире как познающего существа: мы можем обосновать познание в той мере, в какой устраняем из обоснования все то, что идет от случайности того факта, что законы наблюдаются и высказываются человеческим существом, которое — случайно в составе космоса и которое тем не менее должно познавать. Атомарные «расположения» или «состояния соотношений», являющиеся качеством состояния субъекта, могут оказаться началами науки как деятельности познания именно в той мере, в какой эти начала трансцендируют случайность человеческого существа и не зависят от случайности в самом человеке. Сознание вводится Декартом таким образом, что выполняется — и физика потом это реально осуществит — постулат независимости сознания от факта реализации его в каком-либо психическом устройстве. Потому что сознание и является тем элементом (стихией), из материи которого составлены физические законы («материи» в смысле измерений, как я говорил ранее). И если эти законы составлены из этой материи, то они могут быть всеобщими — то есть истинными во всяком возможном мире, а не только в том, который является человеческим. Именно эта проблема в действительности интересует Декарта.
Итак, ум одновременно простерт в мир, и он же — начало науки как чего-то такого, что строится субъектом, но строится на определенных началах и исходя из определенных источников. Эти начала и источники применительно к субъекту характеризуются нами как интенсивности, как действенности, как качества — но качества в смысле атома, в смысле того, что можно ему приписывать. Получается какая-то странная однородность (так как атомы однородны и различаются лишь формами), — однородность, одновременно представляющая какие-то интенсивности на стороне субъекта.
А на стороне мира мы имеем следующее. Ум, который располагает предметы в мире, располагает их «лучом понимания». Представьте себе, что я уперся пальцем в предмет, сдвинул его и поставил на место. Этот палец — луч понимания: я навожу его на предмет, и в луче понимания предмет становится на место. В каком смысле? А в том, что он случается, эмпирически наблюдается в той мере, в какой мы о нем можем что-то сказать; это и есть выполнение предельно понятого в нашем луче понимания. Тем самым я замыкаю все это рассуждение с тем, что я говорил в самом начале прошлой беседы. Там я ссылался на следующее место из декартовского «Трактата о свете»: «Бог — единственный творец всех существующих в мире движений, поскольку они вообще существуют и поскольку они прямолинейны». Дальше у него идет рассуждение о том, что реально эти движения являются кривыми, случайными и т. д. Вполне платоновское рассуждение. И затем Декарт пишет: «Точно так же теологи учат нас, что Бог есть творец всех наших действий, поскольку они существуют и поскольку в них есть нечто хорошее (здесь слово „хорошее" просто заменяет слово „прямолинейные" в предшествующей фразе. — М.М.), однако различные наклонности наших воль могут сделать эти действия порочными» [48] Декарт Р. Избранные произведения. С. 204.
. То есть реально, как они есть, независимо от Бога, вещи и действия — плохие, кривые и т. д. Когда я рассуждал о бытии и небытии, я сказал, что Бог Декарта (да и наш тоже) не видит и не знает небытия. И это очень существенно, потому что метафизика Декарта строится посредством такого обоснования возможности знания, при котором само знание покоится на независимости от незнания. Это — одна из самых важных идей у Декарта: когда я нахожусь на прямой мысли, я не могу видеть ложь и не могу ошибаться. Точно так же, как Бог не видит и не знает небытия. Существование зла не есть позитивное явление: оно присутствует лишь там, где нет меня или нет Бога, оно — заполнение «святого места». Все это относится к знанию в следующем смысле: познающий акт мышления должен быть построен и строится таким образом, чтобы, исходя из самого его построения, мы не зависели бы от незнания. Потому что в данный момент мы не знаем всего. Многое мы вообще можем вводить в качестве ложного начала: например, закрученные корпускулы для объяснения магнетизма — они могут отпасть. Но акт мысли, в котором используются эти корпускулы, строится так, чтобы не зависеть от них, строится как невидящий незнания.
Декарту природа света была неизвестна, и он при объяснении физических законов, касающихся света, пользовался представлением о свете как потоке шариков, падающих на плоскость. В наше время доказано, что нет таких шариков, но строение декартовской мысли и его аргументация не зависят от того, что мы узнали о природе света много спустя после декартовского мыслительного акта. Что такое незнание? Незнание — это то, что я узнаю потом, после совершения акта мысли. Так неужели я должен осуществлять этот акт в зависимости от того, что можно узнать только потом? Тем более что незнаемое мной действует уже сейчас. Как же я вообще могу что-то знать? Это очень существенный момент.
В этом контексте Декарт и произносит свою фразу, на которой я уже останавливался, а именно: «…в той мере, в какой вообще возможно уничтожение существования». Эту фразу, взятую в ее эзотерическом смысле, я попробую состыковать с проблемой, известной из эпистемологических дискуссий. Я буду говорить почти языком учебника, потому что сама проблема излагается часто таким образом, что неточностью и неправильностью своего изложения как раз и напоминает действительную проблему. Утверждают, что до появления диалектики, с одной стороны, и новейшей физики, то есть квантовой механики, теории относительности и т. д, — с другой, мир рассматривался метафизически, как управляемый некими вечными и неизменными законами и как составленный из вечных же и неизменных существ или естеств. В таком случае я задаю вопрос, потому что за этим дурацким изложением стоит действительно проблема. Скажем, известно, что дарвиновская теория эволюции оказалась в свое время большой новинкой и вызвала — правда, непонятно почему — большой скандал. Нам кажется, что причиной скандала были религиозные предрассудки людей в вопросе о происхождении человека, которым противоречило утверждение, что человек якобы произошел от обезьяны. Однако если вглядеться в суть дела, то окажется, что причиной скандала были вовсе не религиозные предрассудки. А что?
Дело в том, что теория Дарвина нарушила фундаментальные интеллектуальные привычки всего тогдашнего способа научного мышления. Люди не могли принять факт исчезновения существующих и появления новых форм. Почему? Потому что мыслить о них невозможно! Наш язык описания таков, что мы можем в нем мыслить предмет и высказывать о нем законосообразные научные суждения лишь в той мере, в какой этот предмет есть максимальное, или предельное, выполнение некоторого понимания. Электрон летит по закономерной — то есть описываемой — траектории именно потому, что этот полет есть выполнение предельного понимания, осуществляется в полном бытии — к нему полностью прилегает и задает каждый его шаг и проявление абсолютное пространство. А если я допущу возникновение и исчезновение не просто отдельных предметов, но форм, то разрушу язык описания — вот о чем идет речь. Если разрушен язык, то я не могу вообще ничего высказывать о предметах. О предмете я могу высказывать нечто лишь в той мере, в какой я могу его представить как эмпирическое выполнение предельного понимания в луче, пронизывающем и ставящем предмет на заданное место. Поэтому я не могу говорить о том, что появляется и исчезает, рождается и умирает. Формы заданы, и их заданность и постоянство являются условием возможности моего мышления об эмпирических событиях, когда я вообще могу высказать что-либо законосообразное. И позволить разрушить этот язык я могу лишь при условии, что мне дадут другой язык, на котором я мог бы так же, в свою очередь, законосообразно говорить о вещах, которые рождаются и умирают. Но теория Дарвина такого языка не дала, и мы его не имеем, о чем свидетельствует история психологии и биологии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: