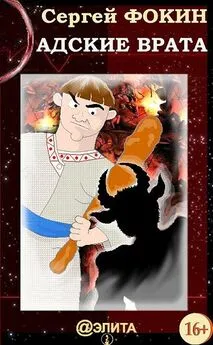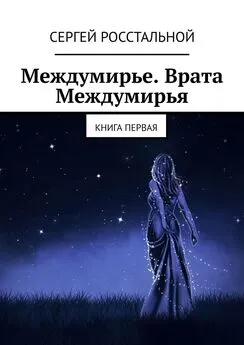Сергей Хоружий - Психология врат как врата метапсхологии
- Название:Психология врат как врата метапсхологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хоружий - Психология врат как врата метапсхологии краткое содержание
Наша непосредственная и конкретная цель заключалась в анализе феномена покаяния — одного из классических феноменов религиозной психологии, представленного, в первую очередь, в иудеохристианской традиции, но имеющего аналоги и в ряде других религиозных миров. В качестве эмпирического поля анализа мы избираем покаянную дисциплину в мистико-аскетической традиции Восточного христианства
Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)
Психология врат как врата метапсхологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ядро всей обширной, многообразной икономии отношений человека со смертью — первичная негативная реакция сознания и организма, всего существа человека на собственное уничтожение: глубинный, органический и непроизвольный импульс отталкивания, неприятия смерти как собственного абсолютного небытия, конца-уничтожения, тотальной аннигиляции субъектного мира. Этот изначальный импульс человеческой природы, «Первоимпульс неприятия смерти», как мы его будем называть [3] Понятие Первоимпульса неприятия смерти обосновывается и разбирается нами в подготавливаемой книге «Дискурс синергии».
, развертывается во множестве проявлений и форм (включая и превращенные, принявшие вид влечения к смерти, в котором, однако, всегда можно распознать инверсию первичного отталкивания); и очевидно из самого определения, что тем, к чему он направлен, — его искомым, предметом и исполнением его стремления — служит избавление от описанной перспективы, или же «преодоление смерти». Но это «искомое» не может обрести в сознании облик определенного, до конца очерченного «предмета сознания», поскольку оно заведомо не принадлежит к числу опытных содержаний субъектного мира: как справедливо указывалось, уже и сама «моя» смерть не может быть содержанием «моего», субъектного опыта. Помимо этого принципиального «предела разрешения» оптики сознания, сознание в обычном повседневном существовании вообще отнюдь не стремится максимально эксплицировать Первоимпульс, вывести в ясность и отчетливость его искомое и его истоки: ибо не раз прослежено и установлено (и глубже всего — в экзистенциальной аналитике Хайдеггера), что обыденному сознанию, подчиненному рутинным структурам повседневности, свойственно уклоняться, отворачиваться от опыта смерти, подвергать этот опыт вытеснению, маргинализации. В результате, в рамках обычных стереотипных режимов существования человека и деятельности сознания, и «преодоление смерти», и сам к нему стремящийся Первоимпульс остаются имеющими достаточно смутные очертания.
Можно заметить, тем не менее, что в конституции Первоимпульса неприятия смерти, в характере тех процессов, в которых он реализуется, существуют определенные общие элементы со свойствами «влечений» (Triebe), как они описываются в классической психоаналитической теории. По этой теории, как известно, «объект» влечения или желания оказывается недоступен [4] Если не говорить об элементарной категории вещественных объектов, доступных, сменяемых и заменяемых.
. Эта принципиальная недоступность объекта соотносится с прямою связью между влечением и Бессознательным; и, в свою очередь, она служит главной предпосылкой формирования обширного репертуара специфических структур сознания (неврозов, комплексов и т. д.), которые выявляет и описывает психоанализ как наука и которые старается подчинить и преобразовать психоанализ как практика. Что же до Первоимпульса, то в его конституции мы также можем зафиксировать фундаментальный факт «недоступности объекта». При любых критериях достоверности опыта, будь то позитивистские или феноменологические, мы констатируем, что в рамках наличного человеческого существования никакого актуально-событийного и доказуемо неиллюзорного, удостоверяемого «преодоления смерти» не происходит. Тем самым, судьба Первоимпульса оказывается вполне подобной судьбе влечений: как и они, он реализуется в процессах, носящих характер циклического повторения некоторого динамического стереотипа, паттерна (повторение, Wiederholen — одно из «четырех фундаментальных понятий психоанализа», по Лакану, напомним, отличаемое от «воспроизведения», Reproduzieren). Но в данном случае эта психоаналитическая парадигма, символически представляемая Лаканом как циклическое движение вокруг пустоты отсутствующего в горизонте опыта, недостижимого Объекта, отнюдь не исчерпывает собой всех явлений и процессов, инициируемых Первоимпульсом.
Повторяющееся не-достижение исполнения, «удовлетворения» Первоимпульса порождает не только те эффекты (типа фрустраций), что фиксирует психоанализ на примерах влечений. Достаточно очевидно — и сотни раз раскрывалось, подчеркивалось в философии, психологии, искусстве — что опыт смерти — единственный заведомо данный, неизбежный для каждого род опыта, онтологически значимого, сталкивающего с самим человеческим бытием как цельностью. Как демонстрирует экзистенциальная аналитика, феномен смерти и опыт смерти занимают уникальное место в ситуации человека, будучи прямо связаны с самим его бытийным, онтологическим статусом: в них — главное, основополагающее выражение и проявление фундаментального предиката конечности, которым определяется горизонт наличного бытия. Сознание — его разумные, высшие активности — фиксирует эту уникальную роль, и потому в нем, наряду с тенденциями к вытеснению опыта смерти, образуются и тенденции противоположного рода, к углубленной, осмысливающей проработке этого опыта. Но важно сразу заметить, что эти тенденции могут находить и находят свое выражение в двух разных руслах.
На одном пути, сознание ставит в центр осмысливающей работы самое смертность, неотвратимую смерть как смыслоносительный и смыслонаделяющий граничный феномен человеческого существования — и ставит задачу осмысливания существования человека в свете и на основе этого феномена: задачу обретения смысла жизни через смысл смерти. Это древний путь, зародившийся уже в архаических культах, отчетливо выразившийся у орфиков, философски отграненный Платоном и вновь потом многократно утверждавшийся философией, от стоиков до Хайдеггера. Девиз его — знаменитая максима из «Федона»: «Философствовать значит упражняться в умирании» (Phed 67e). Здесь, т. о., отношение к смерти делается предметом особого «упражнения» (которое оказывается совпадающим с занятием философией); и, следуя П. Адо, можно считать, что сознание развертывается здесь в стратегии или парадигме «духовных упражнений», суть которой — «созерцание времени и бытия в их цельности… возвышение мысли до уровня универсального» [5] P.Hadot. Exercices spirituels et philosophie antique. Paris 1981.Pp. 54, 56.
. — Однако какая участь предлагается на этом пути для Первоимпульса неприятия смерти? Как легко видеть, парадигма «духовных упражнений» предполагает его нейтрализацию или деконструкцию: путем «возвышения мысли» мне надлежит обуздать, «окультурить» мое изначальное органическое неприятие смерти — и преобразовать, перевести его в «философическое приятие». [6] Здесь ярко видна характерная античная — и, в особенности, позднеантичная — типология парадигмы духовных упражнений. Идеал отношений человека со смертью рисуется в соответствии со стоической диалектикой господства-рабства и варварства-просвещения: «возвышение мысли» доступно всякому, доступно и рабу; и раб (смертный), возвысившийся мыслью, достигает равенства и даже превосходства над своим господином (смертью). И как стоическая диалектика господства-рабства не остановила крушения рабовладельчества, так парадигма духовных упражнений не стала убедительною моделью отношения к смерти, способной развенчать и вытеснить иные пути, на которых человек пытался не быть рабом смерти.
По сути, перед нами — умственный трюк, попытка убедить и уговорить, «заговорить»; и понятно, что «заговорить» и изменить на противоположное коренной и аутентичный импульс самой человеческой природы удается лишь для немногих избранных, особо философских натур. Поэтому, вопреки всей поддержке высокой философии, парадигма духовных упражнений никогда не стала широкою антропологической стратегией.
Интервал:
Закладка: