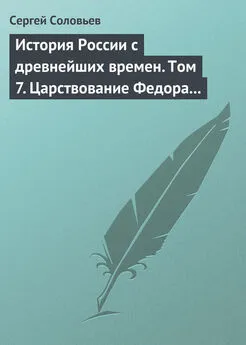Фредерик Коплстон - История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Том II
- Название:История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-0343-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фредерик Коплстон - История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Том II краткое содержание
В двухтомнике известного английского ученого, доктора философии, профессора, автора многочисленных трудов и монографий Фредерика Коплстона анализируются основные направления греческой и римской философской мысли. Вы познакомитесь с ее первыми, порой довольно наивными идеями, узнаете или расширите знания о философских системах Фалеса, Анаксимандра, Пифагора, Гераклита, Парменида, Зенона, Сократа, Платона и Аристотеля, проследите за возникновением и развитием множества философских школ и течений. А также сможете изучить расширение влияния школы стоиков и эволюцию последнего творческого взлета античной мысли, неоплатонизма Плотина.
История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Опять-таки, с первого взгляда может показаться, что Бог Аристотеля или Мышление о мышлении представляет собой антитезис, никак не совместимый с платоновской идеей Добра, которое, будучи интеллигибельным, отнюдь не изображается как интеллект. Тем не менее, поскольку чистая форма является не только умопостигаемой, но и разумной, Платоново Абсолютное Добро требует, чтобы его отождествили с Богом Аристотеля, и это отождествление было осуществлено в христианском синтезе. Так платонизм и аристотелизм составили различные, хотя и дополняющие друг друга, грани теизма.
(Выше я говорил о синтезе двух философских систем – Аристотеля и Платона; однако о необходимости такого синтеза можно говорить только в том случае, если одна теория выступает в форме антитезиса другой и если каждая из них более или менее истинна в том, что она утверждает, и ложна в том, что отвергает. Например, Платон был прав, утверждая, что идеи являются образцами для объектов, и не прав в своем отрицании имманентных форм. Аристотель же был прав, утверждая, что формы имманентны, и не прав, отвергая их в качестве образцов. Но есть другие аспекты их философских систем, в отношении которых нет никакой необходимости говорить о синтезе, поскольку сам Аристотель его уже проделал. Например, логику Аристотеля, это замечательное творение его гения, вовсе не следует синтезировать с логикой Платона, по той простой причине, что логика Аристотеля очень сильно ушла от нее вперед (или, по крайней мере, от того, что мы знаем о ней) и вобрала в себя все то, что было ценного в логике Платона.)
Часть пятая
Философия после Аристотеля
Глава 36
Общая характеристика
1. Под властью Александра Великого свободе и независимости греческих городов-государств наступил конец. При нем и его преемниках, боровшихся друг с другом за власть, греческие города обладали лишь номинальной свободой – все зависело от желания верховного властелина. После смерти великого полководца в 323 году до н. э. наступило время эллинистической цивилизации (в противовес национал-эллинистической). Александр не признавал различий между греками и «варварами», он мыслил имперскими категориями, а не категориями города-государства. В результате этого не только Восток подвергся западному влиянию, но и греческая культура была затронута новыми веяниями. Афины, Спарта, Коринф и другие города не были уже больше свободными и независимыми, объединенными чувством превосходства над варварскими племенами, окружавшими их и пребывавшими во мраке невежества, – все они слились в единое целое, и недалек уже был тот день, когда Греция превратится в колонию Римской империи.
Новая политическая ситуация не могла не сказаться на развитии философии. И Платон, и Аристотель были философами греческого полиса, и для них жизнь человека была неотделима от жизни города – только в городе мог он достичь своей цели и прожить достойную жизнь. Но когда свободные города стали частью большой многонациональной империи, открыто заявили о себе не только идеи космополитизма с его идеалом мирового гражданства, как у стоиков, но и идеи индивидуализма, и это было вполне естественно. На самом деле обе идеи – космополитизма и индивидуализма – были тесно связаны между собой. Ибо когда жизнь города-государства, сосредоточенная в пределах городских стен и охватывающая всех горожан, какой ее считали Платон и Аристотель, была нарушена, горожане стали частью большого государства. При этом каждый человек неизбежно оказался один на один с новыми условиями жизни, поскольку его связи с государством ослабли. Поэтому неудивительно, что в таком космополитическом обществе философия сосредоточила свои интересы на индивидууме, стала его наставником в жизни, которую ему теперь предстояло прожить в большом государстве, а не в относительно маленькой семье полиса. Поэтому в философии взяли верх две тенденции – этическая и практическая, проявившиеся в форме стоицизма и эпикурейства. Метафизические и физические исследования отошли на второй план – ими занимались не ради них самих, а потому, что видели в них основу этики и подготовку к ней. Это увлечение этикой помогает нам понять, почему новые школы заимствовали свои метафизические идеи у других мыслителей, не предпринимая никаких попыток создать свои собственные метафизические системы. Новые школы обратились к взглядам досократиков, причем стоики заимствовали идеи из физики Гераклита, а эпикурейцы – из атомистской системы Демокрита. Более того, философы, жившие после Аристотеля, воспользовались, хотя бы частично, даже этическими идеями досократиков. Стоики основывали свои взгляды на этике киников, а эпикурейцы – на этике киренаиков.
Интерес к этическим и практическим вопросам особенно характерен для философских школ эпохи Римской империи, ибо римляне, в отличие от греков, не занимались метафизическими исследованиями – они были людьми действия. Римлян более раннего времени в первую очередь интересовал характер человека – теоретические изыскания были им совершенно чужды, во времена же Римской империи, когда идеалы и традиции республики были преданы забвению, люди надеялись, что именно философы создадут нормы поведения, которые позволят им проложить свой путь в бурном житейском море, а также обеспечат согласование принципов и действий, основанное на определенной духовной и моральной свободе. Так философы стали духовными наставниками людей – чем-то вроде духовников у христиан.
Совершенно естественно, что практическая направленность философии, а также тот факт, что она считала своим долгом разработку жизненных стандартов, привели к широкому распространению философских знаний среди представителей культурных классов эллинистическо-римского мира и к популяризации философии. В римский период она, в той или иной мере, стала частью обязательного образования (а это потребовало изложения философских идей в форме, доступной для понимания). Именно в этой области философия стала соперницей христианской религии, когда эта религия завоевывала свое место в Римской империи. И вправду можно сказать, что философия в определенной мере способна удовлетворить религиозные запросы человека. В это время мало уже кто верил в античных богов – особенно среди представителей образованных классов, – и тот, кто не мог обойтись без религии, должен был либо стать приверженцем одного из многочисленных культов, пришедших в империю с Востока и гораздо полнее удовлетворявших духовные запросы людей, чем официальная религия с ее чисто деловым подходом к жизни, либо обратиться к философии. Поэтому мы можем проследить религиозные элементы в такой по преимуществу своему этической философии, как стоицизм, а в неоплатонизме, этом последнем цветке античной философии, синкретизм религии и философии достиг своей кульминации. Более того, мы можем сказать, что в неоплатонизме Плотина, в котором высшей точкой интеллектуальной деятельности считался мистический полет духа или экстаз, философия уже переходит в религию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: