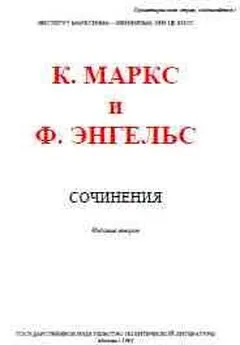Карл Маркс - Собрание сочинений, том 4
- Название:Собрание сочинений, том 4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Маркс - Собрание сочинений, том 4 краткое содержание
Четвертый том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит произведения, написанные с мая 1846 по март 1848 года.
В этот период в основном завершается процесс формирования марксизма, который отныне выступает как сложившееся, непрерывно развивающееся научное мировоззрение рабочего класса, как могучее идейное оружие в его борьбе за революционное преобразование общества, за коммунизм. Относящиеся к этому времени работы — «Нищета философии» и «Манифест Коммунистической партии» — являются уже, как указывал В. И. Ленин, произведениями зрелого марксизма.
Собрание сочинений, том 4 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вильгельм Meйстер — «коммунист», т. е. «в теории стоит на почве эстетического воззрения (!!)» (стр. 254).
«Он на ничто поставил дело
И вот владеет миром смело» [114](стр. 257).
Конечно, у него достаточно денег, чтобы владеть миром, как им владеет всякий буржуа, и для этого ему вовсе не нужно утруждать себя и превращаться в «коммуниста, стоящего на почве эстетического воззрения». — Под крылышком того «ничто», на которое Вильгельм Мейстер поставил свое дело и которое, как выясняется на стр. 256, оказывается довольно обширным и обильным «ничто», можно избавиться от неприятностей похмелья. Г-н Грюн «осушает до последней капли все бокалы без всяких болезненных последствий, без головной боли». Тем лучше для «человека», который отныне может втихомолку безнаказанно предаваться пьянству. Для того времени, когда это все осуществится, г-н Грюн уже сейчас открывает, что стихотворение: «Я на ничто поставил дело» — это подлинная застольная песнь «истинного человека»; «эту песнь будут петь, когда человечество будет организовано так, что станет достойным ее». И вот г-н Грюн сократил ее до трех строф и вычеркнул все места, которые не приличествует знать молодежи и «человеку». Гёте в «Вильгельме Мейстере» утверждает
«идеал человеческого общества». «Человек — не обучающая, а живущая, деятельная и действующая сущность». «Вильгельм Мейстер и есть этот человек». «Сущность человека составляет деятельность» (эта сущность является тем общим, что есть у человека со всякой блохой) (стр. 257, 258, 261).
Наконец, об «Избирательном сродстве». Этот и без того нравоучительный роман г-н Грюн еще больше пропитывает моралью, так что нам почти начинает казаться, что он поставил себе задачей рекомендовать «Избирательное сродство» в качестве учебного пособия, пригодного для женских гимназий. Г-н Грюн объясняет, что Гёте
«делал различие между любовью и браком, причем разница заключалась в том, что любовь для него была поисками брака, а брак — обретенной, завершенной любовью» (стр. 286).
Итак, согласно этому, любовь есть поиски «обретенной любви». Это разъясняется далее в том смысле, что после «свободы юношеской любви» должен наступить брак как «окончательный союз любви» (стр. 287). Точно так в цивилизованных странах мудрый отец семейства предоставляет сыну сначала в течение нескольких лет перебеситься, чтобы затем найти ему подходящую жену для «окончательного союза». Но в то время, как в цивилизованных странах в этом «окончательном союзе» давно перестали видеть что-либо морально связывающее, и там, напротив, муж содержит любовниц, а жена в отместку наставляет мужу рога, г-на Грюна опять выручает мещанин:
«Если у человека был действительно свободный выбор… если два человека основывают свой союз на обоюдной разумной воле» (о страсти, о плоти и крови здесь нет и речи), «то нужно обладать мировоззрением развратника, чтобы рассматривать разрыв этого союза как безделицу, а не как акт, полный страдания и несчастья, как на него смотрит Гёте. О распутстве у Гёте, однако, не может быть и речи» (стр. 288).
Это место достаточно характеризует ту стыдливую полемику против морали, которую позволяет себе время от времени г-н Грюн. В отношении юношества, приходит к убеждению мещанин, нужно кое в чем смотреть сквозь пальцы, тем более, что самые беспутные молодые люди позже становятся самыми образцовыми мужьями. Но если они и после свадьбы позволят себе кое-какие грешки, тогда нет им пощады, нет для них милосердия, так как для этого «нужно обладать мировоззрением развратника».
«Мировоззрение развратника!» «Распутство!» Перед нами «человек» настолько во плоти, как только можно себе представить. Мы видим, как он кладет руку на сердце и с чувством радости и гордости восклицает: Нет, я чист от всякой фривольности, чист от «распутства и порока», я никогда умышленно не нарушал счастья чьей-либо мирной семейной жизни, я всегда оставался верен и честен и никогда не желал жены ближнего моего, я не «развратник»!
«Человек» прав. Он не создан для галантных приключений с красивыми женщинами, он никогда не допускал и мысли об обольщении и о нарушении супружеской верности, он не «развратник», а человек совести, честный и добродетельный немецкий мещанин. Он —
«… лавочник с душой миролюбивой,
Что вечно трубкою своей пыхтит лениво.
Как лист, трепещет он перед своей женой;
Хозяйство властною ведет она рукой,
А он — нося рога, подчас терпя побои —
Живет, вполне своей довольствуясь судьбою».
(Парни, «Goddam» {86} , песнь III.)
Нам остается сделать лишь еще одно замечание. Если мы в вышеприведенных строках рассматривали Гёте только с одной стороны, то в этом вина исключительно г-на Грюна. Он совсем не изображает величественную сторону Гёте. Он либо спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гёте действительно велик и гениален, например, мимо «Римских элегий» «развратника» Гёте, или изливает по поводу этого нескончаемый поток банальностей, который только доказывает, что тут ему нечего сказать. Зато с довольно редким для него прилежанием он выискивает все филистерское, все мещанское, все мелкое, собирает все это вместе, утрирует по всем правилам литературного цеха и каждый раз радуется, когда ему представляется возможность подкрепить свою собственную ограниченность авторитетом часто вдобавок еще и искаженного Гёте.
Не брюзжанием Менцеля, не страдающей ограниченностью полемикой Берне отомстила история Гёте за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался с ней лицом к лицу. Мет, подобно тому как
Титания, в стране чудес и фей,
В объятиях Основы очутилась [115],
так Гёте проснулся однажды в объятиях г-на Грюна. Апология со стороны г-на Грюна, выражения горячей благодарности, которые он бормочет по поводу каждого филистерски звучащего слова Гёте, — вот самая жестокая месть, на какую только могла обречь оскорбленная история величайшего немецкого поэта.
Ну, а г-н Грюн «может закрыть глаза с сознанием, что он не посрамил призвания — быть человеком» (стр. 248).
Написано Ф. Энгельсом в конце 1846—начале 1847 г.
Печатается по тексту газеты
Перевод с немецкого
Напечатано в «Deutsche-Brusseler-Zeitung»№№ 73,74, 93, 94, 95,96, 97 и 98; 12 и 16 сентября, 21, 25 и 28 ноября, 2, 5 и 9 декабря 1847 г.
Ф. ЭНГЕЛЬС КОНГРЕСС ЭКОНОМИСТОВ
Как известно, здесь имеется несколько адвокатов, чиновников, врачей, рантье, купцов и т. д., которые под вывеской Ассоциации в защиту свободы торговли (подобной той, которая существует в Париже) преподают друг другу азы политической экономии. Последние три дня минувшей недели эти господа были на верху блаженства. Они проводили свой великий конгресс величайших экономистов всех стран, они испытывали невыразимое наслаждение, слушая экономические истины уже не из уст какого-нибудь г-на Жюля Бартельса, Ле Арди де Больё, Фадера, то бишь Федера {87} , или иной неведомой знаменитости, нет, они слушали их из уст самих столпов науки. Они были счастливы, они были в восторге, они утопали в блаженстве, они были на седьмом небе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: