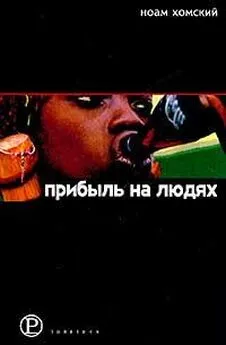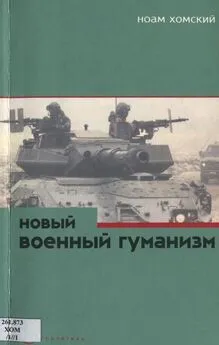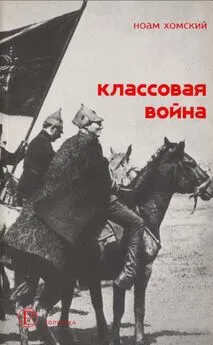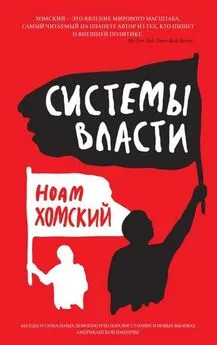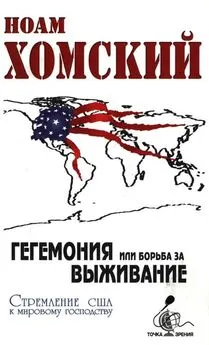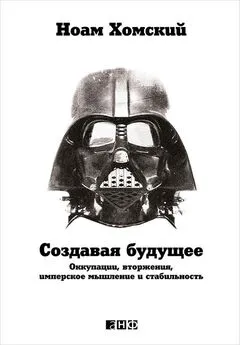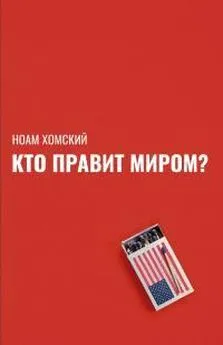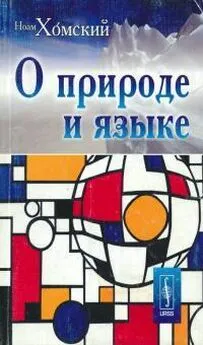Ноам Хомский - Картезианская лингвистика
- Название:Картезианская лингвистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КомКнига
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-484-00181-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ноам Хомский - Картезианская лингвистика краткое содержание
В настоящей книге выдающийся американский лингвист Ноам Хом- ский попытался проследить в трудах языковедов и философов прошлого идеи, сходные с положениями разработанной им теории трансформационной порождающей грамматики. С этой целью он обратился к лингвофилософ- ской рационалистической традиции XVII–XVIII вв., незаслуженно, по его мнению, забытой. Обильно цитируя сочинения Р.Декарта и Ж. деКордемуа, Дж. Хэрриса и Р. Кедворта, братьев Шлегелей и В. фон Гумбольдта, а также других мыслителей Франции, Германии и Англии, Хомский создает целостное представление о главных особенностях рационалистического подхода к языку, основы которого были заложены еще в античности. Знаменитый труд Хомского был переведен на многие языки и вызвал в свое время бурную полемику в научной печати; его русский перевод, несо- мненно, будет воспринят с интересом лингвистами, психологами, философами, культурологами, историками науки и представителями других гуманитарных профессий.
Картезианская лингвистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Декарт характеризовал человеческий разум как «универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах» [Descartes 1955, 11G; цит. по: Декарт 1989, 283], поэтому он обеспечивает безграничное разнообразие свободной мысли и действия26. Гердер вовсе не считает разум «умственной способностью », для него он скорее означает свободу от контроля посредством внешней стимуляции, и он пытается показать, как это «естественное преимущество» делает возможным и даже необходимым развитие языка у человека [Op. cit., 25].
Незадолго до Гердера в довольно сходных терминах охарактеризовал «рациональность» Джеймс Хэррис*: она скорее есть свобода от инстинкта, чем не * Хэррис Джеймс (Harris J., 1709-1786) — английский философ и лексикограф. H.Хомский. Картезианская лингвистика кая способность с неизменными свойствами Хэррис проводит различие между «человеческим принципом», который он называет «разумом» (reason), и «живот ным принципом», который он называет «инстинктом»
Ср. следующий пассаж «ОБРАТИМ ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ... на различие между человеческими и животными способностями — Ведущим принципом ЖИВОТНЫХ оказывается свойственное каждому виду влечение к одной- единственной цели — каковой он обычно и достигает единообразным способом; и этим он обычно столь же единообразно и ограничивается — он не нуждается ни в каких наставлениях или дисциплине, чтобы обучаться; его также нелегко изменить или дать ему иное направление. Напротив, ведущий принцип ЧЕЛОВЕКА заключается в его способности иметь бесконечное число направлений — его можно обратить к любого рода целям — равным образом к любым предметам — если им не занимаются, он остается невежественным и лишенным всякого совершенства — развиваясь, он украшается науками и искусствами — он может подвигнуть нас на то, чтобы мы превзошли не только животных, но и наш собственный род — что же касается наших иных сил и способностей, он может научить нас, как ими пользоваться, равно как и пользоваться телш [силами] разнообразного характера, которые мы обнаруживаем вокруг себя. Одним словом, противопоставляются два принципа — ведущий принцип человека есть многообразие, изначальная необученность, податливость и послушание — ведущий принцип животных есть однообразие, изначальная обученность, однако впо следствии в большинстве случаев негибкость и непослушание » 27 .
Итак, можно утверждать, что «ЧЕЛОВЕК по своей природе есть РАЦИОНАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ», подразумевая под этим лишь то, что он свободен от власти инстинкта28.
Интерес к творческому аспекту языкового употребления сохраняется и на протяжении всего периода романтизма в связи с обсуждением общей проблемы истинной сути творчества в полном смысле этого слова29. Характерны в этом отношении высказывания о языке А. В. Шлегеля, которые можно найти в его «Поэтике » («Kunstlehre»)30. Рассматривая природу языка, он прежде всего отмечает, что речь не зависит от одних только внешних стимулов или целей. Слова языка могут, например, возбудить в говорящем и слушающем представления (Vorstellungen) о вещах, которые люди ранее не воспринимали непосредственно и знают о них лишь по словесным описаниям; есть такие вещи, которые люди «вовсе не могут воспринимать чувственно, поскольку они [эти вещи] существуют в духовном мире». Слова могут также обозначать абстрактные свойства, отношение говорящего к слушающему и к теме речи и связи между элементами последней.
Комбинируя наши «мысли и представления» (Gedanken und Vorstellungen), мы используем «слова со столь тонкими оттенками значений, что философ может прийти в замешательство, пытаясь объяснить их». И тем не менее ими свободно пользуются даже необразованные и неумные люди.
«Из всего этого мы составляем речи, которые не просто сообщают другому о внешних целях, а позволяют ему заглянуть в самую глубину нашей души; с их помощью мы возбуждаем самые разнообразные страсти, подкрепляем или упраздняем решения относительно морали и побуждаем собравшуюся толпу к совместным действиям. Все самое великое и самое ничтожное, самое чудесное, неслыханное и даже невозможное и немыслимое с одинаковой легкостью слетает у нас с языка».
Шлегель считает свободу от внешнего контроля или практических целей столь характерной для языка, что в другом месте31 он считает возможным заявить:
«Все, посредством чего внутреннее находит проявление во внешнем, может по праву называться языком».
От подобных представлений о языке всего один шаг до установления связи между творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством32. Вторя Руссо и Гердеру, Шлегель называет язык «самым чудесным произведением поэтической способности человека» [Schlegel 1962, 145].
В его «Поэтике» язык предстает как «постоянно пишущаяся, меняющаяся и никогда не завершающаяся поэма всего человеческого рода» [Schlegel 1963, 226].
Поэтичность присуща обыденному употреблению языка; его «невозможно депоэтизировать полностью, так что совсем невозможно будет обнаружить в нем хоть какое-то количество рассеянных повсюду поэтических элементов; они присутствуют даже в самом произвольном и холодно-рассудочном использовании языковых знаков, тем больше их можно обнаружить в повседнев ной жизни, в торопливой, непосредственной и часто страстной речи при обыденном общении» [Op. cit, 228].
Поэтому, считает Шлегель, было бы совсем нетрудно убедить мольеровского Журдена, что он говорит и стихами, и прозой.
«Поэтичность» обыденной речи обусловлена ее независимостью от непосредственно воздействующих на нас стимулов (от «телесно воспринимаемого универсума »), свободой от практических целей. Эти качества языка, а также безграничность его возможностей как инструмента свободного самовыражения — как раз те его свойства, которые особо выделял Декарт и его последователи. Однако было бы интересно подробнее рассмотреть аргументацию Шлегеля, когда он устанавливает связь между тем, что мы назвали творческим аспектом языкового употребления, и подлинным творчеством. Выразительный потенциал искусства, как и языка, безграничен33. Однако Шлегель полагает, что поэзия в этом отношении занимает особое место среди прочих искусств; в некотором смысле она лежит в основе всех иных видов искусства и представляет собой главную и наиболее типическую его форму. Когда мы используем слово «поэтичность», говоря о достоинствах подлинно художественного произведения, принадлежащего любой области искусства, мы тем самым признаем уникальный статус поэзии. Центральное место, занимаемое поэзией, объясняется ее связью с языком. Поэзия уникальна в том отношении, что само ее средство безгранично и свободно; иными словами, ее средство — язык — представляет собой систему с неограниченным потенциалом инноваций, используемых для формиро вания и выражения мысли. Созданию любого произведения искусства предшествует творческий мыслительный процесс, и средства для его осуществления доставляет язык. Таким образом, творческое использование языка, в результате которого при определенных формах организации возникают поэтические произведения ([ср.: Op. cit, 231]), сопровождает и определяет любой акт творческого воображения независимо от того, с помощью какого средства оно находит выражение. Поэтому поэзия наделяется уникальным статусом среди остальных видов искусства, а художественное творчество оказывается соотнесенным с творческим аспектом языкового употребления34. Сравните с этим третью разновидность разума, выделенную Уарте (см. прим. 9).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: