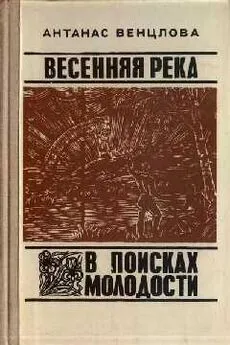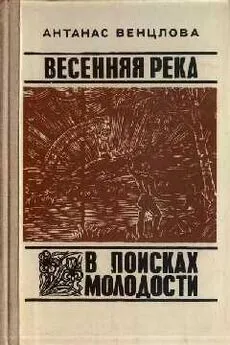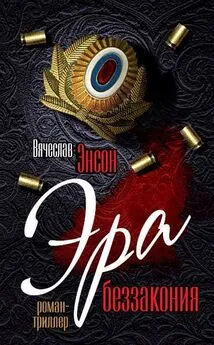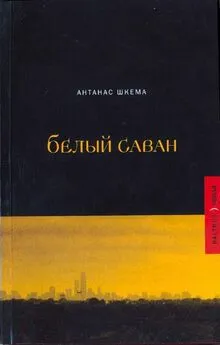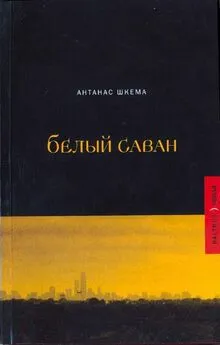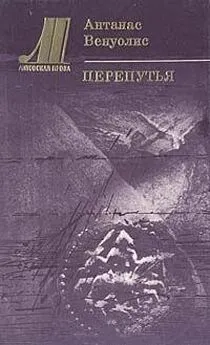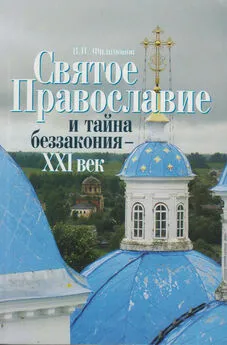Антанас Мацейна - Тайна беззакония
- Название:Тайна беззакония
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антанас Мацейна - Тайна беззакония краткое содержание
Тайна беззакония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Характерно, что, внимательно вглядываясь в происходящее вокруг нас, мы замечаем, как эта идея в наши дни угасает. В сущности, сегодня повторяется та же самая сцена, которая происходила в греческом ареопаге две тысячи лет тому назад. Придя в Афины, св. апостол Павел вступил на городской площади в спор с эпикурейцами и стоиками. Одни считали его лишь болтуном, однако другие пожелали, чтобы он изложил свое учение уважаемым гражданам Афин. Поэтому «взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой?» (Деян., 1 , 19). Заметив жертвенник, на которым было написано «неведомому Богу», он сказал, что Бог «не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду» (Деян., 17, 24—25). Человек ничего не может дать Богу, напротив, Бог сам дает «всему жизнь и дыхание и все» (там же). Он создал род человеческий; Он определил ход истории; Он зажег в человеке страстное желание искать Его. Он объемлет все: «Ибо Им живем и движемся и существуем» (17, 8). Таким образом, человек божественен: «Мы Его и род» (там же). Но, «будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого» (17, 29).
Где же здесь новое учение, вызвавшее интерес греков? Действительно, до этого времени святой Павел не провозгласил им ничего сущностно нового, чего бы они раньше не знали. То, что Бог есть творец мира — учил уже Платон. То, что Господь не живет «в рукотворенных храмах», провозгласил еще Сократ, указывая на внутренний характер божества, а также и Аристотель, перенеся Бога в недоступные потусторонние сферы. То, что Бог перенасыщает наше бытие — старая мысль, которая привела восточных мыслителей даже к пантеизму. То, что мы род Божий — мысль греческих поэтов. Это признавал и сам Павел (ср.,: Деян. 17, 28). Таким образом, Павлом выдвинутые идеи Бога Творца, Его трансцендентности, Его присутствия во всем, подобность человека Богу были грекам в большей или меньшей степени известны. В этих идеях еще не было той Благой Вести, которой преданно служил Павел и провозгласить которую он и прибыл в Афины, за что позже сложил голову.
Но именно потому, что он, в сущности, не провозгласил ничего нового, греки охотно его слушали. В повседневной жизни они привыкли видеть божество в виде статуй в храмах, они привыкли отделять его от своей жизни, разделять человека и Бога. Поэтому им было интересно еще раз послушать то, о чем раньше говорили им самые великие их мудрецы. Павел казался им одним из длинного ряда философов, благодаря которым Греция стала бессмертной в мировой истории. Эти философы как раз и пытались найти высшую связь человека с Богом, дать более духовную концепцию Бога. В речах Павла звучала давняя древнегреческая мудрость. Теология Павла была им интересна, ибо она стала воспоминанием тоски по прошлому. Поэтому они его и слушали.
Но вот наконец Павел подходит к самой Вести. Все то, о чем он до сих пор говорил грекам, было лишь введением и подготовкой. Еще в споре на городской площади он упомянул об этой Вести, «потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение» (17, 18). Когда его привели в ареопаг, он, изложив свои взгляды на Бога, подошел к самому существу своего учения. Он предложил всем покаяться, ибо настает время «в которое (Господь) буде праведно судить вселенную, посредством предопределенного Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (17, 31). В этих словах греки вдруг услышали то, что было для них совершенно новым.Они услышали, что Бог назначил Мужа судить мир и что этот Муж умер и воскрес. Воскресение для греков и было той великой, никогда еще не слыханной Вестью.Но именно эту весть они и не смогли вынести. «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (17, 32). Речь Павла оборвалась. Ничего не добившись, «Павел вышел из среды их» (17, 33). Отвлеченные мысли о Боге для греков были привычны, но умерший и воскресший Иисус им казался нелепостью.
Эта сцена как раз и отражает всю современную установку по отношению к воскресению. Современный мир охотно выслушивает наши абстрактные рассуждения о Боге и о Его Провидении, о необходимости одухотворить понятие Бога и не связывать Его с преходящими земными формами, о нашей внутренней связи с Божеством, о божественном начале, живущем в человеке... Но как только речь заходит о том, что эта связь, неразрывная и неопровержимая, есть в Иисусе Христе; что божественное начало нигде и ни в чем так не пронизывает человека, как в Иисусе Христе; что не кто другой, но Иисус Христос, являет нам Бога; более того, как только слышится утверждение, что Иисус из Назарета есть истинный Бог и истинный человек, что Он воплотился, родился, умер, воскрес и снова приидет, но на этот раз, чтобы судить мир; когда все это кто-нибудь из нас начинает провозглашать, современный мир начинает либо издеваться, либо вежливо замечает, что в настоящее время у него нет времени выслушивать такие сами по себе интересные вещи... Идея воскресения в современном сознании не играет никакой значительной роли.
Поразительно то, что даже среди христиан эта идея стирается и блекнет. Современные христиане не живут страстной верой в идею воскресения, как это было в прежние века. Для них несколько странно звучит утверждение святого Павла: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (I Кор., 15, 14). Им представляется, что это изречение несколько жестковато. Они склонны думать, что Христианство можно было бы спасти и в том случае, если бы Христос сгнил. Между тем для ранних христиан эта истина — воскресение — была самой основой их религии. Они совершенно ясно чувствовали, что действительность воскресения открывает новый период истории, что Воскресное утро есть начало новой жизни.
Воскресение Христа сделало Его не только всегда современным, но вместе придало новый смысл всему нашему земному пути. До Христа смерть была окончательной. Правда, и прежний человек предчувствовал, что восстановление плоти в конце времен возможно. Однако это его предчувствие не имело под собой основы. Оно было лишено гарантии того, что это действительно произойдет. Воскресение Христа как раз и предоставило человечеству эту гарантию. Христос не только провозглашал, что мертвые воскреснут, но сам воскрес.Таким образом Он подтвердил и сделал нерушимым свое обетование. Смерть после Христа — не окончательная, но только временная, только преходящая.
Это изменение характера смерти изменило вместе и весь смысл истории. Человеческую жизнь во всей ее совокупности должна была постичь гибель. Это совершенно определенно провозгласил Христос в своем пророчестве о конце мира. И все же эта гибель в свете воскресения превратилась в очищающее средство, а не в гибель в прямом смысле этого слова. Разрушение мира перед лицом воскресения утратило тень тяжкой безнадежности, которая неотступно преследовала древнего человека. Это нашло яркое отражение в греческой философии и поэзии, насыщенной со времен Гомера глубокой печалью из-за сокрытого тенью потустороннего существования. Даже Иов, не имевший никакого понятия о воскресении, тяжко вздыхает по поводу того, что в скором времени должен отправляться «в страну тьмы и сени смертной. В страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов, 10, 21—22). Это отчаяние древних в глубинном смысле как раз и является отсутствием идеи воскресения. Св. Павел справедливо заметил, что без воскресения «мы несчастнее всех людей» (1 Кор., 15, 19). Никакой подвиг и никакая жертва не имеют глубокого смысла, «если мертвые совсем не воскресают» (15, 29). Поэтому «станем есть и пить, ибо завтра умрем» (15, 32). Поэтому и конец мира только вселенское завершение бессмысленной жизни. И тогда призыв «станем есть и пить» отвечает всему историческому процессу. Перед лицом окончательной смерти история становится чисто посюсторонней.Взгляд человека направлен на эту землю, но не находя в ней смысла и видя конец всего, он омрачается и выражает болезненную безнадежность. Древнее отчаяние отражается в глазах всякого не верующего в воскресение человека. Поэтому совершенно понятно, почему первые христиане так крепко держались за истину воскресения Христа. В ней они видели вселенское спасение от бессмысленности. Они чувствовали, что воскресение сущностно связано с бессмертием человека.Если человек бессмертен, он воскреснет; если он не воскреснет, он не бессмертен; а если он не бессмертен, тогда все его существование чудовищная бессмыслица. Воскресение Христа было залогом воскресения всех и тем самым основой веры человека в бессмертие. Поэтому первые христиане были отмечены знаком радости. Земная жизнь для них не была отчаянием и безнадежностью, но только подготовкой к будущему вселенскому обновлению. Эта жизнь имела смысл, ибо она была соединена с вечностью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: