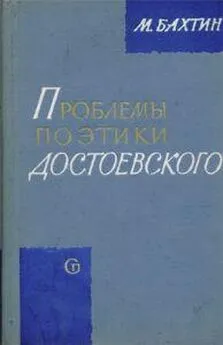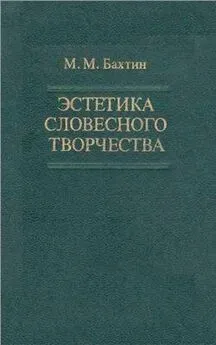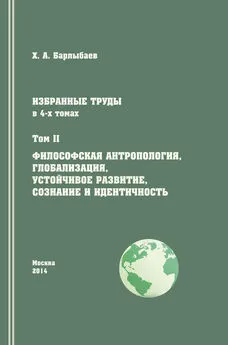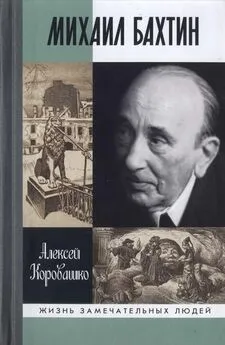Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов
- Название:Том 1. Философская эстетика 1920-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русские словари Языки славянской культуры
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-98010-006-7 (т. 1); 5-89216-010-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов краткое содержание
Первый том Собрания сочинений М. М. Бахтина — это начало пути мыслителя. В томе публикуются его ранние философские работы, не печатавшиеся при жизни автора. Первые посмертные публикации этих работ (в 1975, 1979 и 1986 гг.) были текстологически несовершенными; для настоящего издания их тексты заново подготовлены по рукописям, уточнены и восполнены новыми фрагментами, не поддававшимися прочтению. Три капитальных ранних труда М. М. Бахтина предстают в восстановленных, по существу, — новых текстах. Как и в уже вышедших ранее томах (5, 2 и 6-м) Собрания сочинений, тексты работ обстоятельно комментируются. Тексты сопровождаются факсимильным воспроизведением листов рукописей М. М. Бахтина.
Том 1. Философская эстетика 1920-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нужно отметить, что для построения классического характера как судьбы автор не должен слишком превозноситься над героем и не должен пользоваться чисто временными и случайными привилегиями своей вненаходимости. Классический автор использует вечные моменты вненаходимости, отсюда — прошлое классического героя — вечное прошлое человека. Позиция вненаходимости не должна быть исключительной позицией, самоуверенной и оригинальной.
(Родство еще не разорвано, мир ясен, веры в чудо нет.)
По отношению к мировоззрению классического героя автор догматичен. Его познавательно-этическая позиция должна быть бесспорной, или точнее: просто не привлекается к обсуждению. В противном случае был бы внесен момент вины и ответственности, и художественное единство и сплошность судьбы были бы разрушены. Герой оказался бы свободен, его можно было бы привлечь к нравственному суду, в нем не было необходимости, он мог бы быть и другим. Там, где в героя внесена нравственная вина и ответственность (и следовательно, нравственная свобода, свобода от природной и от эстетической необходимости) — он перестает совпадать с самим собою, а позиция вненаходимости автора в самом существенном (освобождение другого от вины и ответственности, созерцание его вне смысла) оказывается потерянной, художественное трансгредиентное завершение становится невозможным.
Конечно, вина имеет место в классическом характере (герой трагедии почти всегда виновен), но это не нравственная вина, а вина бытия: вина должна быть наделена силою бытия, а не смысловою силою нравственного само осуждения (прегрешение против личности Божества, а не смысла, против культа и пр.). Конфликты внутри классического характера суть конфликты и борьба сил бытия (конечно, ценностно природных сил бытия другости, а не физических и не психологических величин), а не смысловых значимостей (и долг и обязанность здесь ценностно природные силы) — эта борьба — внутренне драматический процесс, нигде не выходящий за пределы бытия-данности, а не диалектический, смысловой процесс нравственного сознания. Трагическая вина сплошь лежит в ценностном плане бытия-данности и имманентна судьбе героя: поэтому вина может быть совершенно вынесена за пределы сознания и знания героя (нравственная вина должна быть имманентна самосознанию, я должен осознавать себя в ней, как я): в прошлое его рода (род есть ценностная природная категория бытия другости), он мог совершить ее, не подозревая значения совершаемого, — во всяком случае вина — в бытии, как сила, а не впервые рождается в свободном нравственном сознании героя, он не сплошь свободный инициатор вины, здесь нет выхода за пределы категории ценностного бытия.
На какой ценностной почве вырастает классический характер, в каком ценностном культурном контексте возможна судьба, как положительно ценная, завершающая и устрояющая художественно жизнь другого, сила? Ценность рода [395], как категории утвержденного бытия другости, затягивающего и меня в свой ценностный круг свершения, — вот почва, на которой возрастает ценность судьбы (для автора). Я не начинаю жизни, я не ценностно ответственный инициатор ее, у меня даже нет ценностного подхода к тому, чтобы быть активно начинающим ценностно-смысловой, ответственный ряд жизни, я могу поступать и оценивать на основе уже данной и оцененной жизни; ряд поступков начинается не из меня, я только продолжаю его (и поступки-мысли, и поступки-чувства и поступки-дела); я связан неразрывным отношением сыновства к отчеству и материнству рода (рода в узком смысле, рода-народа, человеческого рода). В вопросе: кто я, звучит вопрос: кто мои родители, какого я рода. Я могу быть только тем, что я уже существенно есмь; свое существенное уже-бытие я отвергнуть не могу, ибо оно не мое, а матери, отца, рода, народа, человечества [396].
Не потому ценен мой род (или отец, мать), что он мой, т. е. не я делаю его ценным (не он становится моментом моего ценного бытия), а потому, что я его, рода матери, отца, ценностно я сам не свой, меня ценностно нет в противоставлении моему роду. (Я могу отвергать и преодолевать в себе ценностно только то, что безусловно мое, в чем только я, в чем я нарушаю переданное мне родовое). Определенность бытия в ценностной категории рода бесспорна, эта определенность дана во мне, и противостоять ей в себе самом я не могу; я для себя ценностно не существую еще вне его. Нравственное я-для-себя безродно (христианин чувствовал себя безродным, непосредственность небесного отчества разрушает авторитетность земного). На этой почве рождается ценностная сила судьбы для автора. Автор и герой принадлежат еще к одному миру, где ценность рода сильна еще (в той или иной ее форме: нация, традиция и пр.). В этом моменте вненаходимость автора находит себе ограничение, она не простирается до вненаходимости мировоззрению и мироощущению героя, герою и автору не о чем спорить, зато вненаходимость особенно устойчива и сильна (спор ее расшатывает). Ценность рода превращает судьбу в положительно ценную категорию эстетического видения и завершения человека (от него не требуется инициативы нравственной); там, где человек сам из себя начинает ценностно-смысловой ряд поступков, где он нравственно виновен и ответственен за себя, за свою определенность, там ценностная категория судьбы не применима к нему и не завершает его (Блок и его поэма «Возмездие») [397]. (На этой ценностной почве покаяние не может быть сплошным и проникающим всего меня, не может вырасти чистый самоотчет-исповедь; всю полноту покаяния как бы знают только безродные люди). Таков в основе своей классический характер.
Переходим ко второму типу построения характера — романтическому. В отличие от классического романтический характер самочинен и ценностно инициативен. Притом момент, что герой ответственно начинает ценностно-смысловой ряд своей жизни, в высшей степени важен. Именно одинокая и сплошь активная ценностно смысловая установка героя, его познавательно-этическая позиция в мире и является тем, что эстетически должен преодолеть и завершить автор. Предполагающая род и традицию ценность судьбы для художественного завершения здесь не пригодна. Что же придает художественное единство и целостность, внутреннюю художественную необходимость всем трансгредиентным определениям романтического героя? Здесь лучше всего подойдет термин романтической же эстетики: ценность идеи. Здесь индивидуальность героя раскрывается не как судьба, а как идея или, точнее, как воплощение идеи. Герой, изнутри себя поступающий по целям, осуществляя предметные и смысловые значимости, на самом деле осуществляет некую идею, некую необходимую правду жизни, некий прообраз свой, замысел о нем Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: