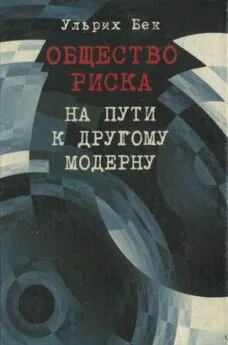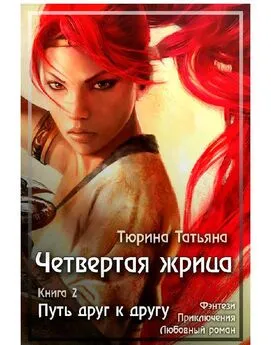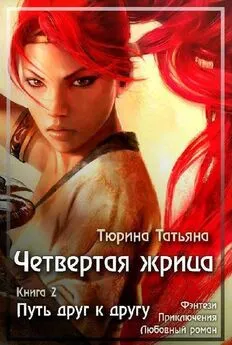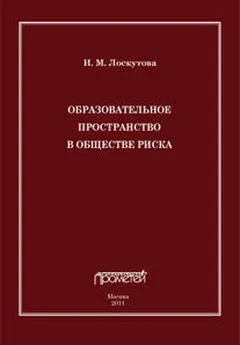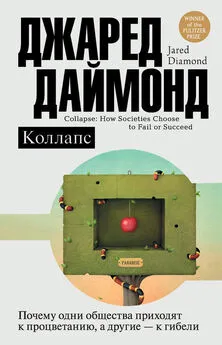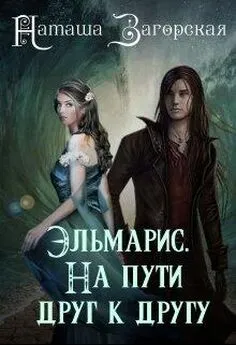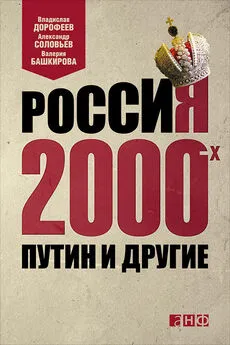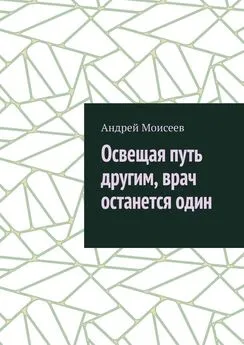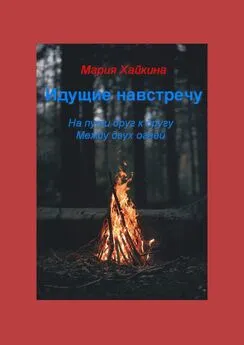Ульрих Бек - Общество риска. На пути к другому модерну
- Название:Общество риска. На пути к другому модерну
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-059-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ульрих Бек - Общество риска. На пути к другому модерну краткое содержание
Книга одного из ведущих исследователей модерна профессора социологии Мюнхенского университета Ульриха Бека (р. 1944) посвящена критическому рассмотрению нынешнего состояния индустриальной цивилизации и тех безрадостных перспектив, которые ожидают человечество на пороге очередного цивилизационного слома. «Общество риска» — книга-предостережение, соединяющая в себе точность диагноза с пониманием неотвратимости происходящего. Ее главная мысль: модернизация размывает контуры индустриального общества, в недрах которого рождается другая модель современного мира, названная исследователем «обществом риска».
Общество риска. На пути к другому модерну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Некоторое облегчение обеспечивает здесь модель прогресса. «Прогресс» можно понимать как легитимное социальное изменение без политико-демократической легитимации. Вера в прогресс заменяет согласование . Более того, она заменяет все вопросы, является своего рода заблаговременным согласием с целями и последствиями, которые остаются неизвестными и неназванными. Прогресс есть tabula rasa, возведенная в ранг политической программы, которую непременно полагается одобрить «оптом», словно это путь в земной рай. Основные требования демократии поставлены в модели прогресса с ног на голову. Уже одно то, что речь здесь вообще идет о социальном изменении, требует задним числом наглядного разъяснения. Официально речь идет о совсем другом и всегда об одном и том же — об экономических приоритетах, конкуренции на мировом рынке, рабочих местах. Социальное изменение осуществляется здесь замещение , по модели обмена головами. Прогресс есть инверсия рациональной деятельности как «процесс рационализации». Это беспрограммное, необсуждаемое, непрерывное социальное изменение в сторону неведомого. Мы предполагаем, что все будет хорошо и в конечном счете все, что мы сами же натворили, всегда можно будет повернуть на рельсы прогрессивности. Но задавать об этом вопросы — куда мы идем и зачем? — значит впадать в ересь. Соглашаться, не спрашивая «зачем?», — вот какова здесь предпосылка. Все остальное — заблуждение, крамола.
В данном случае отчетливо просматривается «контрмодерновый характер» веры в прогресс. Эта вера — своего рода земная религия модерна . Ей свойственны все признаки религиозных верований: доверие к неведомому, незримому, неощутимому. Доверие вопреки рассудку, вслепую, не ведая ни цели, ни средств. Вера в прогресс — это вера самого модерна в собственную творческую силу, ставшую техникой. Место Бога и церкви заняли производительные силы и те, кто их развивает и ими управляет, — наука и экономика.
Колдовские чары, которыми эрцац-бог Прогресс опутал человечество в эпоху индустриального общества, тем более удивительны, чем глубже вникаешь в сугубо земную конструкцию прогресса как такового. Некомпетентности науки соответствует имплицитная компетентность предприятий и чисто легитимирующая компетентность политики. «Прогресс» — социальное изменение, институционализированное в сфере некомпетентности. Фатальность веры в чистую обязательность, причем веры, поднятой в ранг прогресса, так или иначе уже существует . «Анонимная власть побочного последствия» соответствует государственной политике, которая способна лишь благословлять заранее данные решения, и экономике, которая оставляет социальные последствия в латентности факторов, интенсивирующих издержки, равно как и науке, которая с чистой совестью теоретических установок запускает процесс, не желая ничего знать о последствиях. Там, где вера в прогресс становится традицией прогресса, разрушающей модерн, какой сама же и создала, неполитика технико-экономического развития превращается в легитимационно обязательную субполитику.
7. Субполитика производственной рационализации
Функционалистские, организационно-социологические и неомарксистские анализы до сих пор мыслят «определенностями» крупной организации и иерархии, тейлоризма и кризиса, которые давно подорваны производственными развитиями и возможностями развития на предприятиях. С возможностями рационализации, заложенными в микроэлектронике и других информационных технологиях, с экологическими проблемами и политизацией рисков в храмы экономических догм тоже вошла неопределенность . То, что совсем недавно казалось прочным и незыблемым, приходит в движение: временные, местные и правовые стандартизации наемного труда (подробнее см. об этом главу VI), властная иерархия крупных организаций, возможности рационализации уже не придерживаются давних схем и подчинений, преступая железные границы отделов, предприятий и отраслей; структуру производственных секторов можно с помощью электроники объединить в новую сеть; технические производственные системы можно изменить независимо от человеческих рабочих структур; представления о рентабельности ввиду рыночно обусловленных требований гибкости, экологической морали и политизации производственных условий утрачивают жесткость; новые формы «гибкой специализации» успешно конкурируют с прежними «исполинами» массового производства.
В производственной политике это множество структуроизменяющих возможностей никоим образом не должно осуществиться сию минуту, разом или в ближайшем будущем. И все-таки в путанице влияний экологии, новых технологий и преобразованной политической культуры замешательство касательно будущего курса экономического развития уже сегодня изменило ситуацию.
«В процветающие 50–60-е годы еще было возможно сравнительно точно прогнозировать развитие экономики — ныне невозможно предсказать изменение тренда экономических показателей даже на месяц вперед. Неопределенности изменений в национальных экономиках соответствует замешательство относительно перспектив отдельных рынков сбыта. Менеджмент не уверен, какие продукты нужно производить и по каким технологиям, он не уверен даже, каким образом следует распределить авторитет и компетенцию в рамках предприятия. Каждый, кто беседует с предпринимателями или читает экономическую прессу, вероятно, приходит к выводу, что многие предприятия даже без государственного вмешательства испытывают сложности с разработкой развернутых стратегий на будущее».
Конечно, риски и неопределенности составляют «квазиестественный», конститутивный элемент экономической деятельности. Однако нынешнее замешательство демонстрирует новые черты. Оно «слишком сильно отличается от мирового промышленного кризиса 30-х годов. Тогда фашисты, коммунисты и капиталисты во всем мире отчаянно старались следовать технологическому примеру одной-единственной страны — Соединенных Штатов. По иронии, именно в те годы — когда общество в целом казалось чрезвычайно хрупким и изменяемым — никто, похоже, не сомневался в необходимости именно тех принципов индустриальной организации, которые ныне представляются чрезвычайно сомнительными. Тогдашнее замешательство по поводу того, как следует организовывать технологии, рынки и иерархии, является зримым знаком краха решающих, однако же едва ли понятых элементов привычной системы экономического развития».
Размах производственно-социальных изменений, которые становятся возможны благодаря микроэлектронике, весьма значителен. Структурная безработица подтверждает серьезные опасения — но лишь в смысле их обострения, которое удовлетворяет критериям теперешних категорий восприятия этой проблемы. Безусловно в промежуточный период столь же важно будет то, что внедрение микрокомпьютеров и микропроцессоров станет инстанцией фальсификации теперешних организационных предпосылок экономической системы. Грубо говоря, микроэлектроника знаменует выход на такую ступень технологического развития, которая технически опровергает миф технологического детерминизма. Во-первых, компьютеры и управляющие устройства программируемы, т. е. в свою очередь могут быть функционализированы для самых разных целей, проблем и ситуаций. А тем самым техника уже не диктует, каким образом ее надлежит использовать; напротив, это, скорее, можно и нужно задавать технологии. Доныне обязывающие возможности формирования социальных структур посредством «объективных технических принуждений» уменьшаются и даже инвертируются: чтобы вообще уметь использовать сетевые возможности электронного управления и информационных технологий, необходимо знать, какой именно характер социальной организации желателен по горизонтали и по вертикали. Во-вторых, микроэлектроника позволяет разъединить трудовые и производственные процессы. Иными словами, система человеческого труда и система технического производства могут варьироваться независимо друг от друга.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: