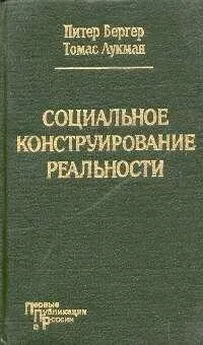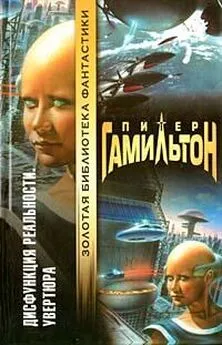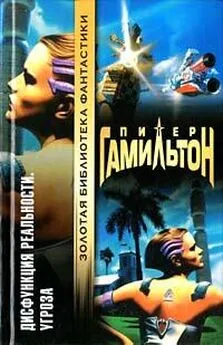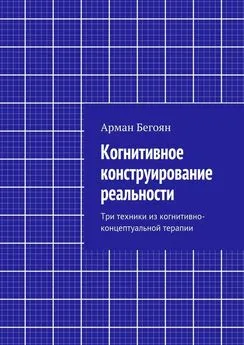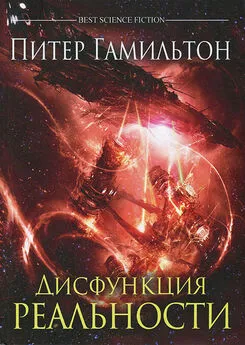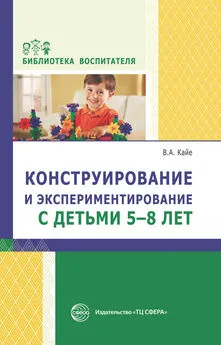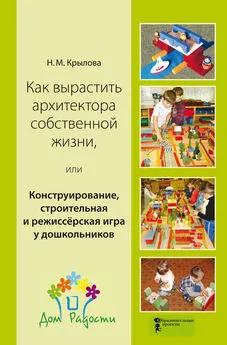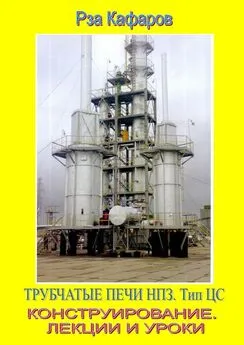Питер Бергер - Социальное конструирование реальности
- Название:Социальное конструирование реальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Медиум
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-85691-036-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Бергер - Социальное конструирование реальности краткое содержание
Феноменологическая социология знания, сторонниками которой являются авторы книги «Социальное конструирование реальности», ориентирована не столько на изучение специализированных форм знания, вроде науки, а на «повседневное знание», реальность «жизненного мира», предшествующую всем теоретическим системам. При обилии идейных источников, которые рассматриваются в начале книги, главным, безусловно, является феноменология Э. Гуссерля, переработанная А. Шюцем в феноменологическую социологию. Но детальная разработка основных категорий и тем социологии знания в феноменологической перспективе, принадлежит именно П. Бергеру и Т. Лукману. После выхода работы «Социальное конструирование реальности» это направление получает широкую известность и вес в американской и немецкой социологии.
http://fb2.traumlibrary.net
Социальное конструирование реальности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Анализ ролей особенно важен для социологии знания, так как он раскрывает связь между макроскопическими смысловыми универсумами, объективированными в обществе, и способами, посредством которых эти универсумы становятся субъективно реальными для индивидов. Так что теперь оказывается возможным проанализировать, к примеру, макроскопические социальные корни религиозного мировоззрения определенных общностей (классов, этнических групп, интеллектуальных кругов), а также способ, каким это мировоззрение проявляется в сознании индивида. Проанализировать и то, и другое одновременно можно лишь в том случае, если исследуются способы связи индивида с рассматриваемой общностью во всей полноте его социальной деятельности. Такое исследование было бы неизбежно исследованием в области ролевого анализа.
е. Границы и способы институционализации
До сих пор мы рассматривали институционализацию в терминах существенных характеристик, которые можно было бы считать социологическими константами. Очевидно, что в данном исследовании мы не можем дать даже краткого обзора бесчисленных вариаций и комбинаций этих констант в их воплощении в исторической реальности. Эту задачу можно было бы решить, лишь написав универсальную историю с точки зрения социологической теории. Существует, однако, ряд исторических разновидностей характера институтов, столь важных для конкретного социологического анализа, что их следует рассмотреть хотя бы кратко. Конечно, наше внимание будет опять сосредоточено на взаимосвязи между институтами и знанием.
Исследуя любой конкретный институциональный порядок, можно задать следующий вопрос: каковы границы институционализации в рамках всей совокупности социальных действий данной общности? Иначе говоря, насколько велик сектор институционализированной деятельности в сравнении с сектором неинституционализированным? [70]Понятно, что по этому вопросу нет исторического единообразия, так как разные общества допускают большие или меньшие возможности для институционализированных действий.
Нам важно понять, какие же факторы определяют большие или меньшие границы институционализации.
Формально границы институционализации зависят от всеобщности релевантных структур. Если многие или большая часть релевантных структур повсеместно разделяются членами общества, границы институционализации будут широкими. Если лишь некоторые релевантные структуры повсеместно разделяются, границы институционализации будут узкими. В последнем случае существует возможность, что институциональный порядок будет весьма фрагментарным, поскольку определенные релевантные структуры разделяются отдельными группами, а не обществом в целом.
В эвристическом смысле было бы полезно поразмышлять здесь в терминах идеально типических крайностей. Можно представить общество, в котором институционализация является полной. В таком обществе все проблемы — общие, все решения этих проблем социально объективированы и все социальные действия институционализированы. Институциональный порядок охватывает всю социальную жизнь, которая напоминает непрерывное исполнение сложной чрезвычайно стилизованной литургии. Здесь нет или почти нет специфическо-ролевого распределения знания, так как все роли исполняются в ситуациях в равной степени релевантных для всех деятелей. Эту эвристическую модель полностью институционализированного общества (достойная кошмара тема, отметим по ходу дела) можно слегка видоизменить, представив, что все социальные действия институционализированы, но не только вокруг общих проблем. Хотя стиль жизни в таком обществе, предписываемый его членам, был бы столь же суровым, все же здесь была бы больше степень специфическо-ролевого распределения знания. Так сказать, одновременно совершалось бы несколько литургий. Нет необходимости говорить, что ни такой модели полностью институционализированного общества, ни ее модификации мы не обнаружим в истории. Общества, существующие в действительности, можно рассматривать лишь в терминах их приближения к этому крайнему типу. Тогда можно сказать, что примитивные общества приближаются к этому типу в гораздо большей степени, чем цивилизованные [71]. Можно даже сказать, что в развитии архаических цивилизаций заметно прогрессивное движение в противоположную от этого типа сторону [72].
Его крайней противоположностью было бы общество, в котором существует только одна общая проблема и институционализируются лишь те действия, которые связаны с этой проблемой. В таком обществе почти не было бы общего запаса знания, так как практически всякое знание — специфическо-ролевое. Если говорить о макроскопических обществах, то даже приближений к этому типу не существует в исторической реальности. Но определенного рода приближения к нему можно обнаружить в сравнительно небольших социальных образованиях — например, в освободившихся колониях, где общие интересы сводятся к экономическим мероприятиям, или в военных экспедициях, состоящих из ряда племенных или этнических соединений, единственная общая проблема у которых — ведение войны.
Помимо развития социологического воображения, подобный эвристический вымысел полезен лишь в той степени, в какой он помогает прояснить условия, благоприятствующие приближению к нему. Наиболее общее условие — определенная степень разделения труда с сопутствующей дифференциацией институтов [73]. Любое общество, в котором увеличивается разделение труда, движется в сторону, противоположную от вышеописанного первого крайнего типа. Другое общее условие, тесно связанное с предыдущим, — наличие экономических излишков, позволяющее определенным индивидам или группам заниматься специализированной деятельностью, непосредственно не связанной с поддержанием жизни [74]. Как мы видели, наличие этих специализированных видов деятельности приводит к специализации и сегментации общего запаса знания. Это дает возможность знанию, которое может быть отделено субъектом от любой социальной релевантности, стать «чистой теорией» [75]. Это означает, что определенные индивиды (если вернуться к нашему предыдущему примеру) освобождены от охоты не только для того, чтобы ковать оружие, но и придумывать мифы. Так что теперь у нас есть «теоретическая жизнь» с присущим ей распространением специализированных систем знания, которые находятся в ведении специалистов, чей социальный престиж в действительности может зависеть от их неспособности делать что-либо, помимо теоретизирования. Это порождает ряд теоретических проблем, к которым мы вернемся позднее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: